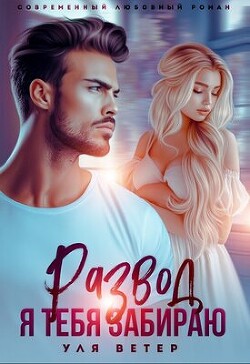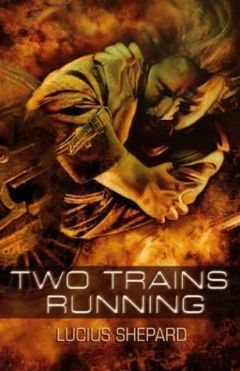Чёрный полдень (СИ) - Тихая Юля
Когда-нибудь я обязательно отошью свою коллекцию, как те, что печатают в модных журналах. Там будут ситцевые летние платья с косточками и вшивной молнией, лёгкие, ласкающие кожу воланами. Или нет: льняные брюки, потому что кто вообще в здравом уме откажется от льняных брюк? Или двусторонние пальто, с одной стороны в клетку, а с другой — какие-нибудь цветные, из мягкой-мягкой шерстяной ткани, чтобы не кололась и не вытиралась от одного касания, как бывает у нас с давальческим сырьём, и чтобы была не маркая и красиво струилась, не тянулась и не превращалась в тряпку.
Пока что я шила только для себя и знакомых, а в цеху только кроила по готовому. Нас таких, приходящих закройщиц, было трое, и все местные, — держать штатную при каждой смене производству получалось невыгодно.
Словом, швейка — хорошее место. Но ещё швейка — это пыль и грохот, грохот и пыль, и сломанные глаза, и истыканные иглами пальцы, и спина, которую и хотелось бы разогнуть, да не получится. Но везде свои особенности, не так ли?
Так что, пока девчонки наседали на бригадиршу с заказами, квитанциями и раздачей работы, я зажгла в раскройном скрипучие электрические лампы, проверила журнал с суточным заданием и расчётную карту и, крякнув, перекантовала толстый рулон к столу. Раскатала слой по линейке, потом ещё один, и ещё; отбраковала отрез с маслянистым пятном на полотне, взялась за зажимы, лекала, мел…
У меня хорошая жизнь, вообще говоря. Почти такая, как и мечталось в детстве. А однажды я всё-таки встречу свою пару и может быть даже уеду из Марпери, чтобы устроиться портной в ателье и шить разное, красивое, подгоняя по фигуре и придумывая какие-нибудь фантазийные воротники. И тогда всё станет ещё лучше, — хотя, казалось бы, куда уж ещё?
iii.
После обеда нам привезли машиной новые лекала и несколько тонких рулонов сыпучей блестящей ткани: мелкую партию женских брюк очень попросили отшить как-нибудь побыстрее, и ушлые дамы из коммерции, конечно же, содрали за это с заказчика втридорога. Лекала, разумеется, были только в трёх размерах из пяти и неразрезанные: именно так и поступают все разумные люди, когда им нужно «срочно, прямо на следующей неделе». Технолог, тяжело зыркнув на меня и бумажный рулон из-под кустистых бровей, прогудела:
— Градацию доделай и крой по одному на размер, на образцы.
— А почему они не сами?.. Градацию. У них же, наверное, констру…
— А это, милочка, — технолог важно ткнула в потолок пальцем, — вовсе не наше дело.
Ну не наше так не наше, пробурчала я, сразу как-то погрустнев и скуксившись. И до позднего вечера возилась сперва с ножницами, ворочая широкие листы так и эдак, а потом с мерзкой сыпучей тканью, которая, наэлектризовавшись, упрямо липла к руками и не хотела лежать ровно даже в два слоя.
В лекалах не хватало деталей под пояс, шлёвки и карманы, хотя в техническом рисунке все они были, и в договоре — тоже. Технолог кричала басом на коммерцию, коммерция — на бригадира швей, которая бунтовала, что «не станет шить из этого говна», а бригадир — на меня, потому что я заикнулась, что кроить настилом эту дрянь тоже не получится. В цех вызвали Мадю, подсплеповатую и самую опытную на всём производстве закройщицу, и она как-то лихо приструнила и буйных коллег, и ткань, выкроив десяток карманов в шесть ударов ножниц.
— Ух ты! Мадя, как это вы так?
— Покопти с моё, — пробурчала она, но расплылась в довольной улыбке.
Сама Мадя в Охоте поймала лягушку и очень напоминала её очертаниями рта, зато в пары ей достался целый мощный пёс, который работал на железной дороге. В Марпери они занимали хорошую, тёплую квартиру в доме у самой вокзальной площади.
— Опять не повезло? На танцах-то.
— Не повезло, — я неловко улыбнулась и развела руками.
— Ну и ладно, — неожиданно припечатала Мадя. — Успеется ещё. Хорошо б, конечно, чтоб Сати увидела, как вы дом поставите, но может ещё и поглядит. Как она там?
— Хорошо. Она хорошо, да. Ага.
Мадя покачала головой, а я смотрела, как она ловко расчерчивает припуски на будущий пояс и намечает точки под заклёпки.
Вернулась домой я поздно, и всю дорогу зевала и тёрла глаза до красноты, — в них будто насыпали гравия и припорошили сверху песком. Вздёрнутые плечи опять никак не хотели опускаться, и приходилось потихоньку, медленно и мягко, растягивать шею.
Тётка Сати уже спала, — по дому плыл её гулкий храп. Я осторожно опустила сумку на колченогий табурет, нагребла себе в миску гречки, отрезала кусок от припрятанной в погребе кровяной колбасы и жевала, сгорбившись за столом и стараясь поменьше стучать ложкой.
Гудели ноги, а пальцы ныли от ножниц. Завтра мне ещё предстояло накроить почти две сотни брюк, — зато какое разнообразие! И должна же я как-то приноровиться к этой ткани? Вон как ловко Мадя её сложила, и даже без булавок!
Тётка всхрапнула, дёрнулась — и проснулась.
— Олта?.. — хрипло позвала она.
— Я здесь, тёть. Кашу будешь?
— Не хочу.
— С маслом, вкусная. Я колбасы тебе покрошу, хочешь?
— Говорю же, нет! Лопату дай.
Я потянулась до хруста в плечах, размяла шею и встала, запихнув в себя на ходу ещё пару ложек гречки, а потом сунула нос в греющийся на краю печи чайник.
Лопатой мы звали вытянутый неглубокий таз, который вообще-то продавался в магазине как противень. На светлой эмали была нарисована какая-то зелёная ботва, аляповатая и неровная. Я вытащила таз из-под стола, налила тёплой воды, поболтала, дожидаясь, пока металл хоть немного согреется; вылила воду в канистру в прихожей, бросила на дно жатую газету.
В тёткином углу всегда пахло затхло, влажно, хотя я регулярно меняла бельё и протирала клеёнки водкой. Тётка Сати полулежала, тяжело откинувшись на собранные в высокую кучу подушки; она давно ссохлась и похудела, так что мне не было трудно, обхватив пониже поясницы, приподнять её над кроватью и подсунуть таз. Нащупала пуговицу сзади, развела полы халата, устроила тётку понадёжнее.
— Какая погода там сегодня? — ворчливо спросила Сати, когда в судне вяло зажурчало.
— Хорошая, — с готовностью отозвалась я. Влажно шлёпнуло. — Ещё очень тепло, у цеха осины зажелтели, а берёзы совсем зелёные. Грибами пахнет.
— Я всегда любила ходить за грибами. В моё время здесь было столько грибов! Выйдешь за калитку и ррраз — боровик! И папаша наш был заядлый грибник, иногда уходил на весь день, а матушка ой ругалась. А потом он приносил полных два ведра пчелиной губки, и сидишь, сидишь полдня, перебираешь, чистишь, а он ещё подложит специально среди беленьких грибов тёмный, схватишь его неудачно и пуффф! Дунет тебе пылью в лицо, а папаша смеётся…
Она рассказывала, улыбаясь неловко и ловя мой взгляд, и я честно смотрела ей в лицо и сжимала сморщеную руку. Пахло в доме совсем не грибами и не лесом: из-под тётки плыл сладковатый запах жидкого дерьма. Наконец, все дела были сделаны, я выставила лопату в прихожую, взяла миску с водой и ветошь, обтёрла пергаментно сухую кожу.
Свет калильной лампы был блёклый и неверный, и в тенях на коже я не заметила бы нового красноватого пятна. Зато пальцами я легко нащупала изменённую, тёплую кожу.
— Ты переворачиваешься? — строго спросила я.
— Я что, маленькая по-твоему?
— Надо переворачиваться каждые два часа. На одном боку полежала, а потом на другой. И пить, у тебя в бутылке опять ещё половина осталась.
— Не лезет в меня столько.
— Пей потихоньку. Маленькими глотками, но часто.
— Ерунда это всё.
Больше пить советовал фельдшер, но у тётки Сати была, как обычно, своя оценка его рекомендациям.
— Ты почему не переворачиваешься? Опять пятно. А если будут пролежни? Резать же придётся, и вдруг сепсис, тёть Сати, ну…
— Будет и будет! Сдохну хоть побыстрее.
Может быть, родителям повезло, что тогда, при взрыве, конструкции размозжили папе череп с такой силой, что от головы почти ничего не осталось. Он умер мгновенно, и мама тогда упала в столовой прямо на раздаче, даже раньше, чем до здания докатились камни. Мы проводили их, как сумели, в братскую могилу, а по весне посадили им липку. Я тогда выплакала все глаза, так, что от рыданий мутило, а в голове был колючий туман.