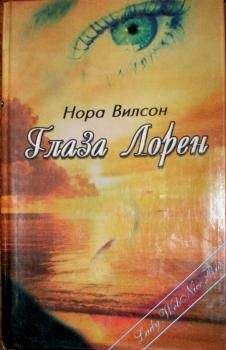Райчел Мид - Сны суккуба
— Для тебя? — Он остановился. — А может, и стоило бы.
— Вычистить твой счет?
— Да.
— Принять участие в пирамиде?
— Говорят, их больше не организуют.
— А если врут?
— Фетида, — вздохнул он, — я скажу сейчас то, чего никогда еще не говорил.
— И что же это?
— Помолчи.
Тут он наклонился и горячим поцелуем согрел мои холодные губы. Какие-то дети поблизости захихикали, но мне было все равно. Поцелуй прожег меня, казалось, до пят. Длился он недолго, как обычно, но, когда Сет отстранился, я вся пылала. Каждый нерв во мне сладостно трепетал, и холод стал нипочем. Сет поднес к губам мою руку. Не снимая перчатки, поцеловал в то место, где было подаренное им кольцо.
— И почему ты такой хороший? — тихо спросила я.
Сердце у меня колотилось; звезды, проглядывавшие сквозь облака, светили, казалось, лишь мне одной во всем мире.
— Какой же я хороший? Я только что велел тебе помолчать. Один шаг до требования делать бутерброды на завтрак и стирать носки.
— Ты знаешь, о чем я.
Сет поцеловал меня снова — в лоб на этот раз.
— Я хороший, потому что с тобой легко быть хорошим.
И мы опять взялись за руки и покатили дальше. Я хотела было положить голову ему на плечо, но вовремя сообразила, чем это может кончиться при его устойчивости.
— Что ты хочешь на Рождество? — спросила я.
— Не знаю. Мне ничего не нужно.
— О нет, — сказала я шутливо, — ты же не из таких. Не говори только, что терпеть не можешь…
И тут он поскользнулся. Одна нога поехала куда-то вбок. Я устояла, а он упал — на подвернувшуюся вторую ногу.
— О господи. — Я опустилась рядом на колени. — Ты цел?
— Как будто да, — ответил он.
Но стиснул зубы, и я поняла, что ушибся он сильнее, чем хочет показать. Помогла ему подняться. Ноги у него снова начали разъезжаться, но в конце концов он все же сумел встать ровно.
— Хватит, — сказала я, направляя его к воротам. — Уходим.
— Мы же только пришли.
— О, ты стал вдруг фанатом, Скотт Гамильтон?
— Сама такая. Подумаешь, упал… ничего страшного.
Может, ничего страшного и вправду не было, но при мысли о том, что он мог сломать ногу, в груди у меня похолодело.
— Все равно пошли. Я проголодалась.
В мой внезапный голод он не поверил, но спорить не стал. Когда мы сменили коньки на обычную обувь и я увидела, что он не хромает, на душе полегчало. Не хватало еще, чтобы он и впрямь серьезно ушибся — по моей вине…
— Я не стеклянный, — сказал он в машине. — Нечего со мной так носиться.
— Инстинкт, — сказала я небрежно.
На самом деле я вспомнила о грустном разговоре, который вели они тогда с Эриком. Оба были смертными. Оба могли покалечиться. И умереть.
На протяжении веков я теряла тех, кого любила. Всякий раз, сближаясь с кем-то, усердно делала вид, что с ними этого случиться не может. И, когда все-таки случалось, я снова и снова сталкивалась с жестокой реальностью, от которой так старалась убежать.
Весь вечер и почти всю ночь я не могла перестать об этом думать. Глупо, конечно, было придавать столько значения какому-то падению, но слишком много несчастий в моей жизни начиналось с таких же мелочей. Об одном из них я и вспоминала, уже лежа с Сетом в постели.
Тогда, несколько веков назад, я жила в маленьком городке на юге Англии. Меня звали Сесили, у меня были огненно-рыжие волосы и огромные, сапфирового цвета глаза.
У современных людей довольно забавные представления о тех временах. Они думают, что все тогда были благочестивы и богобоязненны и подчинялись закону Божьему. Да, были благочестивы, конечно, и подчинялись, но и плотским желаниям оставалось место — даже у священников. Нет, не так. Особенно у священников. Церковные служители высокого ранга жили очень хорошо, в то время как простолюдины отчаянно боролись за существование. По иронии судьбы, их отчаяние и способствовало благосостоянию церкви, ибо деньги ей давали бедняки, надеясь, что в ином мире их будет ждать лучшая участь. Власть и богатство развращают, как известно, и епископ города, в котором я жила, был из самых развращенных.
А я была его любовницей.
Считалась в доме епископа служанкой, но обслуживала его в основном в постели. Он с ума по мне сходил, дарил красивую одежду, всякие безделушки, и о наших отношениях знали все. Хотя и понимали, что это грех, но смирялись. Ведь любовниц содержали и другие епископы — и даже папы, — и никто, как я уже сказала, не был так благочестив, как нравится думать современным романтикам.
Однако жизнь во грехе с престарелым епископом меня не удовлетворяла. Я была уже в полной силе в те дни, сбить его с пути истинного никакого труда мне не составило. Не сделай этого я, нашлась бы другая женщина. Поэтому я спала с ним, получая регулярные дозы, да еще и на стороне развлекалась.
Упомянутое развлечение в один прекрасный день приняло облик двух монахов, которые, обнаружив, что я переспала с обоими, кинулись друг на друга с ножами. Не знаю, чего они этим думали добиться. Вряд ли я увидела бы их еще когда-нибудь, поскольку монастырь находился довольно далеко от города. К тому же оба как любовники были настолько заурядны, что второй раз иметь с ними дело не хотелось.
Тем не менее бились они свирепо и пролили много крови, пока их не разнял местный священник.
Я, спрятавшись в толпе, наблюдала за дракой с самым невинным видом. Что дерутся из-за меня, не знал никто, кроме этого священника.
Его звали Эндрю, и мне он очень нравился. У епископов помимо служения мессы и отправления прочих церковных таинств имелись еще и административные обязанности. Поэтому за нашего большую часть треб ежедневно совершал Эндрю. К нам в дом он приходил часто и в свободные минуты охотно беседовал со мной — как друг и как пастырь.
— Вы меня ненавидите? — спросила я его после драки.
Мы сидели в саду возле дома, в стороне от тропинки, по которой ходили слуги, и разговора нашего никто не слышал. Епископу Эндрю о моей причастности к драке ничего не сказал, посетовал только, какой это стыд, что братья дошли до подобной крайности.
Он закрыл глаза, запрокинул голову, подставив лицо солнцу. На груди его сверкал тяжелый золотой крест — подарок моего епископа, который Эндрю подумывал продать.
— Ну разумеется нет.
Любуясь его молодым, красивым лицом, я подумала, что истинный стыд — это его обет целомудрия. Шелковистые темные волосы Эндрю ерошил ветер, и так сладко было представлять, что это я провожу по ним рукой.
— Но осуждаете.
— Я осуждаю грех, а не тебя. — Он открыл глаза, выпрямился. — За тебя я молюсь.