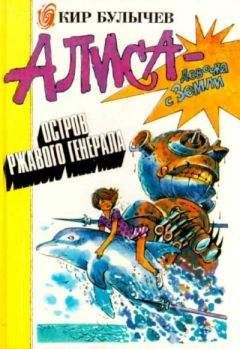Ржавый-ржавый поезд (СИ) - Ролдугина Софья Валерьевна
Девчонка вскочила со скамьи, оббежала служанку вокруг и взяла её под локоть – то ли поддерживала, то ли держалась сама. Тени их гротескно вытянулись и заколебались в такт качанию фонаря.
– Увидимся, Келли, – громко шепнула Мари-Доминик и смешно наморщила нос, надвигая пониже клетчатое кепи. – И не бойся Жоэля. Мама улыбается, когда на тебя смотрит. А у Жоэля в груди трещина. Значит, он скоро сломается насовсем.
– Мари! – госпожа Коде резко дёрнула её за рукав. – Хватит! Не говори такие вещи…
Окончание фразы я не расслышал. Голова стала вдруг лёгкой и звеняще-холодной, как во время выступления. Мне казалось, что стоит оттолкнуться от земли – и я упаду вверх, в сырые клочья облаков, в кислый лунный свет, туда, где тянутся из ниоткуда в никуда затянутые серебряным мхом рельсы, и низко гудит усталый металл, и кружок луны вдруг начинает двигаться, быстрее и быстрее, несётся сквозь желтоватую дымку, и стучат колёса, и хлопья ржавчины сыплются вниз, вниз, запорашивая улицы Йорстока, точно пороховой гарью…
…ржавый поезд, мёртвый поезд – ты его так долго ждёшь?..
– Забери меня туда, где я никогда не…
Вспышка молнии ослепила меня – и отрезвила.
Я стоял на мысках, как балерина, вытянувшись в струнку, под каким-то невозможным углом. Заведённые назад руки покалывало от напряжения, шея онемела. Стоило только осознать это, и я потерял равновесие и рухнул мешком на мостовую.
Ещё никогда, кажется, мне не хотелось так сильно обнять кого-нибудь, ощутить живое тепло и ответное объятие. Не как прелюдию к любовной сцене, а само по себе… просто как доказательство, что я существую.
«Иллюзионист никогда не должен прикасаться к своей иллюзии, – всплыли вдруг в памяти слова Эммы Веласкес. – Иначе он не сможет заставить других поверить в её реальность».
Я распластался на холодной брусчатке, чувствуя спиной каждый выступ, каждый камешек, каждую раздавленную недозрелую ягоду и сухую былинку. Тучи на западе полыхали немыми вспышками; лунный свет еле-еле пробивался из-за края облачного фронта и размазывался по восточной половине неба; ветер перебирал ветви плакучей рябины, плавил изменчивый лиственный узор. Откуда-то несло едкой химической гарью, медно звенел колокол и кто-то кричал.
…так невыносимо далеко.
– Ещё немного, и я свихнусь, – пробормотал я, но голоса своего так и не услышал. – Или поверю в то, что я действительно иллюзия. Причём неизвестно, что хуже.
В лагерь я возвращался не шагом – бегом. Под языком горчила пластинка имбиря, за спиной шелестел ливень, надвигающийся со скоростью поезда-экспресса – всё ближе и ближе. Прыжки становились длиннее и затяжнее; на лестнице между главной площадью и проспектом Памяти я перескочил, кажется, десяток ступеней за раз. Встречные собаки поджимали хвосты и заливались лаем, а коты выгибали спины и светили глазами, как зелёными болотными огоньками. Одна любопытная кошка-трёхцветка привязалась ко мне у фонтана и бежала рядом, по заборам, через лавочки, вдоль тротуара – и так почти до самой окраины. От едкого химического дыма сводило горло.
Утром газеты писали о пожаре на складе фармацевтической компании. Жертв не было, огонь вроде бы появился на крыше и распространялся достаточно медленно, чтобы все сторожа успели выбежать на улицу; однако погасить его не сумели даже четыре пожарных бригады вместе с проливным дождём. Склад выгорел до самого фундамента, а затем пламя погасло само собой.
– Что ты об этом думаешь? – спросил за обедом я у волшебника. Сегодня вечером у него было выступление – и перед выступлением аппетит традиционно пропал. Волшебник цедил мятный настой и рассеянно грыз имбирь в меду, и от жгучего имбирного сока губы у него слегка припухли и покраснели. Иногда он… нет, даже не облизывал их – растерянно трогал языком с каким-то мазохистским удовольствием.
– О пожаре? – переспросил волшебник, явно думая о чём-то другом. – Гроза, молнии, старое здание… Наверняка на складе было много легковоспламеняющихся веществ. Вспомни Эмму Веласкес. Её фургон сгорел за считанные минуты, она даже проснуться не успела.
– Я помню. – Думать об Эмме было неприятно. Боже, ну и дурака же она тогда из меня сделала… До сих пор это аукается. Но ни один её поступок не заслуживал смерти. Даже попытка отобрать волшебника. – Смотри, тут пишут, что сторожа разбудил прямо перед пожаром какой-то рабочий, но его потом не нашли. Может, это поджигатель был?
– Разумеется, – с непередаваемой интонацией откликнулся волшебник. Часы на стенах тикали вразнобой – без четверти три, без пяти минут, без трёх… Я внутренне сжался, ожидая, когда фургон наполнится боем. – Заботливый поджигатель, который поспешил вывести свидетеля на улицу вместо того, чтобы перерезать ему горло. Лично я бы перерезал – на всякий случай.
И не поймёшь, то ли он шутит, то ли говорит правду.
Из тех часов, которые на пару минут спешили, высунулась красная птица, невнятно дзынькнула и спряталась обратно.
Началось.
– Ты на меня сердишься… ну, за ту выходку? – трусливо спросил я, зная, что ответ волшебника заглушит бой часов – следующие двенадцать минут обещали быть весьма шумными.
– Не на тебя, – успел произнести он.
Дверка на больших настенных часах распахнулась, и изнутри выглянула старомодная парочка – глупая блондинка в голубом платье и её красавец ухажёр, чем-то напоминающий плакальщика из похоронной конторы. Коротенький вальс не успел отыграть – зазвенели следующие часы, а потом почти сразу в бой вплелась скрипучая музыка… Волшебник пригубил травяной настой и прикрыл глаза; на бледной коже залегли тени, которые мог скрыть бы разве что театральный грим.
Не выспался. И губы… припухли. Как знать, может, и не от имбиря вовсе.
– …скоро уедем.
– Что? – Я не сразу понял, о чём он говорит.
– Пока я буду выступать – собери вещи. Мы скоро уедем, – терпеливо повторил волшебник, не размыкая век. – Возможно, ещё до рассвета. Макди выставил плакат с рекламой выступления «Сына Падающей Звезды», но представления не будет, разумеется. Это блеф.
– Зачем такие сложности?
– Затем, что всю неделю вокруг лагеря слоняются посторонние, – сухо ответил он. И приоткрыл один глаз, левый – потому что дьявол всегда хромает на правую ногу и косится левым глазом. – Мне это не нравится, Келли. Макди тоже. Мы уедем раньше, остальные пробудут здесь на десять дней дольше. Встретимся ближе к морю, под Корсой.
Вокруг ног точно обвились невидимые чугунные цепи.
«Мы не уедем», – хотел я сказать, но язык онемел.
В конце концов, мои предчувствия никогда не сбывались…
– Хорошо. Я соберу вещи.
…кроме одного раза.
В тот вечер Эмма учит меня гадать на картах по-настоящему.
Симпатии к ней я давно уже не чувствую, но отказаться от приглашения – выше моих сил. Выше чьих-либо сил, честно говоря, когда Эмма просит серьёзно.
Вообще, когда речь идёт о ней, предложение, просьба и приказ – почти одно и то же.
– …карты любят дурить, – напевно произносит она, баюкая в ладонях колоду, как спящую птицу.
У Эммы светлые, как у северянки, глаза, а кожа смуглая, сладкая, как карамель. Эмма заплетает чёрные косы и укладывает их вокруг головы – в два оборота, точно корону.
Эмма прекрасна.
– Тогда зачем вообще учиться гадать?
– Как – зачем? Чтобы разобраться в себе, разумеется, – подмигивает Эмма и смеётся. – Иди сюда, Келли. Садись ближе… обними меня… так… Хочешь, погадаем на любовь?
В фургоне у Эммы всегда головокружительная мешанина запахов – тлеющие благовония, бесчисленные саше-обереги, жгуты из сухих трав, остро пахнущие разноцветные фейерверки в узких коробках, костюмы для выступлений в сундуках, пересыпанные лавандой и рутой… Всю заднюю часть помещения, у запасной дверцы, занимает постель – несколько матрасов и перин, уложенных прямо на пол, друг на друга, без всякой системы, ворохи батистовых простыней и шерстяных одеял. Оттуда тоже тянет особым запахом – одновременно сладким и кислым, душным, как от вянущих лилий. От него у меня слюна становится вязкой, а иллюзорный комок тепла начинает медленно стекать по рёбрам вниз, от сердца к животу, и даже ниже.