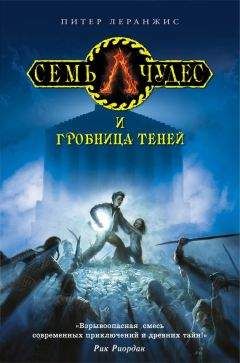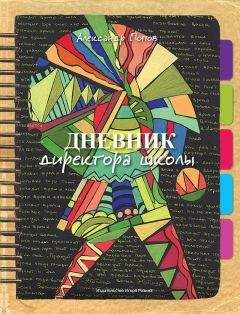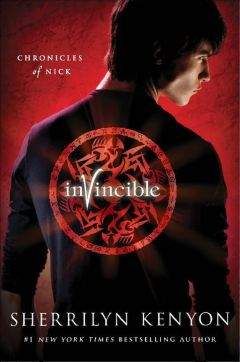Александра Мороз - Игры Судьбы
Глаза — два чистейших изумруда, не награда, а настоящие наказание. Именно из-за них она впервые услышала тихий шепоток за спиной: "Ведьма!"
Тонкая и гибкая, необычайно грациозная, но эту грацию не сравнишь с грацией лани. Нет, ее движения легки и текучи, кошачья пластика — пластика хищника, но тогда ей не дано было этого понять.
А в мире только одно родное существо — старшая сестра, в доме которой и жила девушка.
Тоже рыжая, но она не выделялась из общей массы. Вышла замуж, а пару лет назад ей пришлось приютить младшенькую после мора — родители покинули мир живых.
Дни, тягучие, липкие, текли медленно, как растопившаяся на солнце смола по коре дерева. Повседневные заботы и хлопоты, но она с радостью помогает по хозяйству.
Этот неспешный и монотонный круговорот разрывает радостное событие. Она скоро станет тетей. Сестра беременна. Замечательно. Девушка рада за сестру и в то же время грустит. Грустит. Она тоже хочет иметь маленький комочек, который дороже всего в мире. Родная душа. Лучик надежды.
"Ведьму поймали!" — кипит весь базар, на который она отправилась утром в город по поручению сестры.
"Ведьму?" — девушка полна непонимания.
"На костер! На костер Ведьму! Сжечь дьявольское отродье!"
Непонимание. " Что же все-таки происходит?"
Она спешит к центральной площади, что бы узнать это.
Грязные улочки и переулки, девушка спешит. Беспокойство захватывало все большее пространство в ее душе. Она чувствовала, что происходит что-то ужасное, неправильное, страшное. Это пугало ее.
Поэтому она практически бежала по лабиринту темных и грязных улочек. Девушка бежала, бежала от этого дурного предчувствия, но, как ей уже казалось, она бежала прямо в его объятия.
Главная улица городка. Вот она. Вот оно. По ней едет телега, на которой установлена клетка. Клетка. А в ней…ее сестра.
Мысли девушки путаются, и в тоже время в них царят необъяснимая четкость и упорядоченность.
Страх. Горечь. Обреченность. И… решение. Страшное. Правильное.
Бегом к церкви.
" Успеть. Успеть раньше телеги. Зачем?"
"Покаяться? Ну, раз они так хотят. Будет покаяние.
Лишь бы сестра с ребенком были живы".
"Покаяние?
Странное это слово".
" Покаяться в чем? В том, что ничего не совершала. Бред.
Но лучше я, чем сестра. У нее есть, для кого жить, у меня лишь она", — мысль странная в своей четкости и законченности.
"Так вот что не давало мне покоя!.. У нее есть, для кого жить…" — ужас от осознания проскользнул лишь на краю сознания и стек, не зацепившись.
Бег. Она бежала. Отчаянно. Безнадежно. Безвозвратно.
"Добежать. Успеть. К чему? К смерти… — к спасению!"
"Успела" — решила она, обогнав телегу и остановившись у входа в церковь.
"В нее мне вход заказан, как богомерзкой ведьме… Ладно, устроим сцену покаяния здесь… Убедить их, что это я… Убедить… их… себя… что так… нужно…так правильно…"
Все смешалось. Девушка не помнила, что говорила в тот момент. Но о чем думала, в сознании отпечаталось очень ярко. Думала она о том, что поступает верно. Да, именно так "Верно!".
А потом были три бесконечных дня в камере. Холодно, сыро, мрачно, можно сказать, безнадежно или безысходно. Так…
Три дня, три дня умирания веры, не пошатнувшие решимости. Три дня для осознания своей правоты и… ее цены.
А потом на главной площади села, перед церковью, столб и толпа. Толпа, требующая зрелищ.
("Хлеба и зрелищ народу…" — эта формулировка пришла к ней, не так давно с одной из песен.)
А тогда ей было страшно. И противно.
"Эти люди, так требуют моей смерти, как будто я дьявол во плоти, сосредоточение грехов. В их глазах ненависть и жажда… жажда крови… моей крови!"
Она видит ненависть, немного безучастных и… Глаза полные боли и благодарности. Глаза ее сестры.
Девушку привязали к столбу. Под ее ногами уже выросла куча из хвороста. А толпа спорит, оставить дрова сухими или полить водой — что бы не сильно мучилась.
И опять возгласы. Они повсюду.
"Смерть ведьме!"
"Сжечь ведьму! Дьявольское отродье!"
Зачитывают приговор, но девушка не слышит. Она прощается с сестрой, беззвучно, одним лишь взглядом. Прощается и прощает…
Приговор зачитан. С ним закончилось время ее пребывания на земле и жизнь.
Палач подносит факел к дровам, и они весело занимаются. Им без разницы, они с радостью спасают и отнимают жизни, им все равно, что нести, как и огню.
"Они все-таки полили дрова водой…" — была последняя, не понятная даже ей самой, мысль. От дыма она потеряла сознание.
— Смотри, а эти смертные, в кои-то веки, умудрились сжечь настоящую Ведьму, — нотки ехидства, так хорошо слышались в тоне говорившего, что казалось, хрустели на зубах. Голос был приторно сладок, страстен, горяч. Заползал в уши, сворачивался змеей вокруг сознания. Духота жаркой июльской ночи, всплывала в памяти, с его первыми звуками.
— Да, но Она сама к ним пришла, так что это не их заслуга, — второй голос — полная противоположность. Он был кристально чист и холоден. Струился в воздухе, создавая ощущение трескучего холода, ледяной воды, обжигающей кожу, январского морозного дня.
"Странно видеть свое тело со стороны! Особенно, когда паришь в воздухе", — эти мысль показались ей самой забавными до абсурда. Она видела, как тело исчезает в языках пламени, невольно отметила, что раздуваемые ветром, ее волосы устроили еще один костер. В это время дух девушки все быстрее поднимался к небесам.
" В Рай?" — мысль ее очень удивила.
А потом была Серость. Ни Свет, ни Тьма, а всеобъемлющая Серость. Сумерки. Место, не принадлежащее ни Свету, ни Тьме. Нейтральная зона.
— Своей жизнью Она доказала, что принадлежит Свету, — раздался на удивление безучастный голос.
— Последний ее поступок нельзя расценивать как-то кроме самоубийства, — говоривший был явно не согласен с первым. — Она принадлежит Тьме, ведь Свет не место для самоубийц.
— Самоубийство? Зачем же так открыто лгать? Хотя такая сила весьма притягательна. Но это был шаг полного самопожертвования, даже самоотречения. Она достойна служить Свету. А раз не веришь мне, так смотри. Ты знаешь, на них невозможно повлиять.
В воздухе появились аптекарские весы. На одной из их чашечек лежали белые перья, которые заметно перевешивала такую же с черными перьями. Во время этого спора девушка заворожено наблюдала за тем, как к белым собратьям присоединялось последнее, самое большое, перо. Она плавно опускалось в белый ворох, сияя своей несказанной белизной.