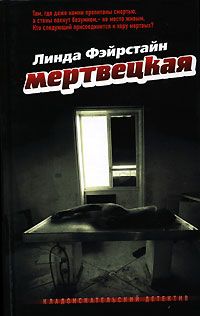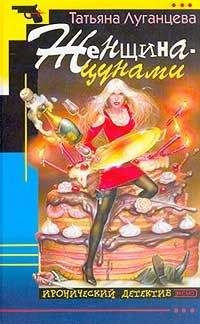Татьяна Мудрая - Злато в крови
— Селина Хорек. Не эстетно.
— Селина Ласка, — вежливо поправила она. — Даже не думай меня за грелку держать. Ласочка. Белетт по-французски. «Кола Брюньона» знаете?
Разумеется, все мы помнили: прелестная возлюбленная героя, с которой он встречается в глубокой старости, ее и своей. Я, в дополнение к этому, наткнулся в Интернете на высокоумный реферат, где исходя из многих символов выводилось, что упомянутая последняя встреча происходит на кладбище в День всех Святых и что Селина давно мертва и похоронена, а Кола в последний раз убегает от смерти, принявшей ее облик.
— Ласка чешет гривы лошадям и плетет косицы. И скачет на них, — объяснила Селина.
«И пьет из них кровь», — добавил я про себя.
Все мы были богаты и наряжали Селину, как новую игрушку. Она и сама, как мы поняли, была не из бедных, как и все мы, любила богато рядиться, но ее вкусы были поляризованы: либо униформа, либо маскарад. Естественно, мы развивали в ней последнее, что было благодарной задачей: природная грация ее тела, казалось, исходила из самого корня души. И когда она, отлично проведя очередную ночь, ближе к утру являлась в наше маленькое собрание, мы по одному звуку и окраске ее шагов угадывали сегодняшний стиль.
Четкая дробь небольших каблучков. Слегка торопливая поступь. Свободный черный или серый пиджачок и такие же брюки, кружевная блуза, многослойная барсетка в руке — юная бизнес-леди.
Почти неслышная мягкость шага, плавный и точный ритм, шелест и тихий свист богатой шелковой ткани. Плотная синяя юбка до щиколоток, мягчайшая палевая рубашка с прошвами — до середины бедер, большая сумка из какого-нибудь экзотического материала — гобелен, рисовая соломка, деревянные бусы и стеклярусная бахрома — через плечо. Розовато-желтый батист оживляет цвет щек, синева задает тон глазам, сумка показывает, что перед вами свободный интеллигент, не обремененный ни работой, ни особыми денежными средствами, завсегдатай элитарных клубов, театров, музеев, художественных презентаций (с маленькими бутербродами и рюмками на подносике; из тех, что вливают свежую кровь в тело искусства) и прочих «модных тусовок».
Неспешный, ровный шаг, до неправдоподобия четкий, великолепно слышимый, невольно совпадающий с биением вашего сердца. Стиль «бремя белого человека». Серый, в обтяжку, китель с широким кожаным поясом, такие же штаны, свободные в бедрах и заправленные в любимые мягкие полусапожки, иногда круглая барашковая шапочка и накидка вроде мушкетерского плаща, но без нагрудной части, той, которая с крестом. Вторая кожа.
Как-то ее походка показалась нам совершенно чужой: почти неслышная, вкрадчивая, томная, ее сопровождал легчайший звон, слитый с мускусным ароматом, каждое движение становилось провозвестником некоего чуда. То было полное праздничное облачение лэнской или эроской мусульманки: изумрудная туника из тяжелого и гибкого шелка, шаровары, такие же, но темнее оттенком, бледное золото узких вышивок, драгоценные камни запястий и ножных браслетов, а поверх всего — здешний хиджаб в тоне и стиле туники: глубокий, до плеч, колокол, украшенный спереди, на самом лице, чем-то вроде пестрой бабочки.
Я забыл пояснить, что к этому моменту мы перебрались в маленький городок в предместье Лэн-Дархана. Селина делала большую рекламу стране Эро, но я как старший воспрепятствовал: гореть в аду, что нам, по всей видимости, суждено, можно и без прижизненных репетиций на раскаленной глиняной сковородке. А что пресловутый хиджаб — самая лучшая маскировка для наших дам и уместна как раз в Эро и его предгорьях, до этого мы сразу додумались.
— Вам, Ролан, такое платьице тоже подойдет, — заметила она. — Руки и ноги у вас изящные, рост небольшой. А уж эстетно-то как!
Без комментариев…
Как и все мы, Селина открывала в себе новые таланты, являющиеся, как она поясняла, прямым продолжением старых; но я был уверен, что не увидел в действии и половины из них. Как-то она, деликатно отодвинув Сибиллу, уселась за рояль и, чуть позаплетавшись в пальцах, сыграла бетховенскую «Элизу» с такой чистотой и глубиной, которые даются только самым умным и добрым детям. Тогда-то Сибилла, сама блистательный профессионал, и решила выучить ее виртуозной фортепьянной игре — вернее, дать ей вспомнить прежние уроки. Еще как-то Селина с Роланом на пару до четырех утра носились, пыряя друг в друга тупыми учебными рапирами и дико хохоча от восторга.
— Будь это настоящим оружием, Сели бы меня в решето превратила, — заявил мой Ролан, упав прямо в разбросанные на полу подушки.
— Будь это настоящим оружием, мой юный долгожитель, мы бились бы взаправду, и тогда быть бы тебе нашинкованным мелкой соломкой вместе с кишками и их содержимым, — негромко ответила Селина. — Если уж искать сравнений на кухне.
— Почему это? Меня хорошо обучили тогда в Венеции.
— Да потому же, почему я никогда не сыграю «Лунную сонату» так, как наша Сибби. Не говоря уж обо всей бетховенской патетике. И холодная сталь такая штука, что поневоле побуждает выкладываться, и выучка у меня была — тебе не снилось в самом страшном сне.
Отчего-то Ролан посмотрел на нее с большой опаской.
Одно время Селина увлекалась тем, что насиловала слух Ролана «серебряной» (так?) поэзией того славянского народа, к которому он генетически принадлежал: пришлось это, по логике, на санкт-петербургский период существования нашего общества. Хотя не помню точно, позже могли быть и рецидивы. Ролан понимал стихи едва на четверть, но уверял всех, что это превосходно. Стихами, как чужими, так и собственного производства, Селина была просто напичкана и всё время пыталась переложить их на самодельную музыку. Голос в ней открылся потрясающий, хотя я готов был клясться, что при смертной жизни его не ставили. Точнее, ставили, но не для пения: рвал воздух и уши наподобие ультразвука, стоило ей позабыть осторожность. Кстати, именно из-за упомянутых особенностей вокала Сибилла и Ролан решили заменить ей рояль на гитару.
Песенки Селина исполняла всякие: меланхолические и озорные, философски заумные и на грани вседозволенности. Изо всех я особенно полюбил вот эту:
Пронзая осени последние пределы,
На юг летит скворцов крикливых стая;
В скупых лохмотьях листьев пожелтелых
Уходит Флора — нищенка босая.
Вослед ей небо кроет пеленою,
Клочками осыпается на землю
Ноябрь застылый; я в немом покое
И холод, и полет его приемлю.
Сиянье света, сердца устремленье
Там, где мы все найдем успокоенье.
А снег — предвестье ледяного рая —
Всё сыплет из прорехи в мирозданье
И тает вмиг: его преображает
Моей земли последнее дыханье.
Но так же неуклонно, неустанно
Он падает, окутывая раны;
И дали, что беременны весною,
Любовью снег до времени укроет.
В краю легенд, в необозримой дали
Огонь пылает в ледяном кристалле.
Там всё, чем здесь тела людские бренны,
Сотрешь ты вмиг ресниц единым взмахом,
И я, как некогда Кеведо несравненный,
Развеюсь прахом — но влюбленным прахом!
Несколько позже мы четверо уселись в седло. Ипподромы нас, желающих всего самого лучшего — да побольше, побольше! — не устраивали. Поэтому мы арендовали вместе с хорошей конюшней и грумом пятерых лошадей: спокойного буланого мерина для меня, белую кобылу с примесью ахалтекинских кровей — для Сибиллы (наш эксперт из местных тотчас же с присущими ему ехидством и занудством вставил, что лошади бывают светло-серые и белорожденные, так вот, перед вами явно не альбинос красноглазый). Ролан получил горячего светло-гнедого жеребца, очевидно, под цвет волос, бедуинчик Бенони — хитрющую игреневую кобылку: по причине наличия в ее генах национального арабского достояния.