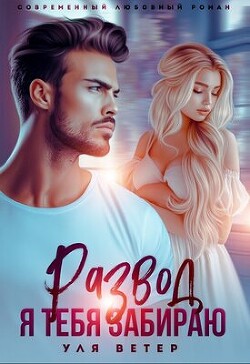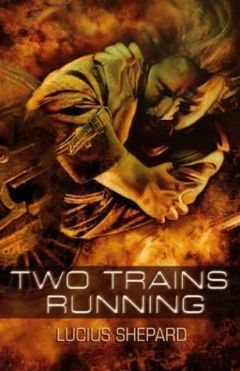Чёрный полдень (СИ) - Тихая Юля
— Спасибо. Лопату дать тебе?
— Попозже.
— Хорошо. И воду пей пожалуйста. Побольше, как фельдшер сказал. Ладно?
Она пробормотала что-то неразборчиво и отвернула голову к стене.
Наутро я сбегала к газетному киоску у вокзала, выбрала в сарае проржавевшие, давно ненужные вилы, а на чердаке отыскала верёвку, прищепки и старенький справочник заклинаний. А потом, вздохнув, как перед прыжком в воду, вынула из музыкальной шкатулки крощечный рубин.
Шкатулку купила мама, — она ездила в Заливное на обучение и привезла Гаю целую коробку оловянных солдатиков, а мне — шкатулку с балериной. Если бросить на антенну простенькие чары, играла музыка, а балерина крутилась, будто танцуя. Потом шкатулку уронили, и барабан с музыкой раскололся, а у балерины отломилась рука. Я плакала навзрыд, и мама обещала заказать с получки другую шкатулку.
Не знаю успела ли она найти в каталоге шкатулку и кому-нибудь написать, но я такой посылки так никогда и не получила. Сломанная балерина пылилась на чердаке, — в «музее», как называла его тётка Сати, которая всё убеждала меня то переехать, то выкинуть всё, что напоминало о родителях и аварии, — и я не брала её в руки много лет. Но других ненужных рубинов у меня не было, а здесь ведь он давно уже ни к чему?
Лунный не знал ничего ни о шкатулке, ни о том, откуда я взяла камень: он был, как и в прошлый раз, в превосходном настроении и рад меня видеть.
— Доброе утро! — я вскарабкалась на площадку и остановилась, чтобы отдышаться.
— Привет! Ты принесла мне книгу?
— Лучше! Я принесла радио.
И я торжественно вынула из сумки тёткино радио и примостила его на бревне.
— Мне нужно будет его забрать потом, — неловко сказала я. — Но ты хотел посмотреть…
— Да. А почему оно молчит?
— Оно же выключено.
— Так включай скорее!
Приёмник был старенький и чиненый-перечиненый, — я всё хотела купить новый, со звуком получше, и поднять антенну на крышу, но вместо этого всякий раз приходилось покупать то уголь, то мисктуры, то что-нибудь ещё. Поэтому каждое утро я долго крутила ручку на боку радио, чтобы оно не выключалось до самого вечера.
В других городах, я знаю, бывают разные станции на разных частотах, и можно крутить колёсико, выбирая, что хочешь слушать. В Марпери своего радио не было, и мы слушали то, что доносили до нас волны эфира из Старого Бица. Чаще всего это была станция «Дорожная», с музыкой, местными новостями и розыгрышами, а иногда, в хорошую погоду, у нас ловил ещё «Фонарь». На «Фонаре» читали стихи, включали нежную инструментальную музыку и рассуждали об искусстве и воле Полуночи.
— Щщщщпх, — затрещало радио, когда я завела колесо, и рубин внутри ожил. — Ххххххпщщщщ… ушате… щщщхэ… гоновожатый расска…пха… амвай номер се…
Настраивать радио — это, в некотором роде, искусство; по крайней мере, мне нравится так думать. Нам много раз говорили, что радио давно пора выкинуть, и оно никак не станет работать чем-нибудь, кроме шумящей ерунды. Тётка Сати, наслушавшись мастера, звала приёмник то погремушкой, то громыхалкой, то шумовкой. Но мне как-то удавалось с ним договориться: немного любви, много терпения, чуть-чуть удачи, и радио заслуживало гордый титул балаболки.
Так и теперь мне понадобилось не больше десяти минут, чтобы шипение и трескотня сменились бодрым голосом диктора.
Передачи «Дорожной» редко оказывались для Марпери чем-то полезным. В цеху, бывало, мы сутками слушали про какие-то нововведения на перекрёстках Старого Бица, аварийный мост, ремонт трамвайных путей и запуск троллейбусного маршрута из района, в котором я никогда не была, в другой район, о котором я даже не слышала. Иногда мне казалось, что ещё чуть-чуть, и я смогу нарисовать карту Бица по одним только этим новостям.
Вот и теперь диктор пересказывал интервью с вагоновожатой маршрута 7к. У него был хорошо поставленный, очень правильный выговор, и лунный слушал с горящими глазами его раскатистые «р» и чёткие круглые «о».
Пока радио повествовало о трамваях, я сидела на бревне и лениво жевала припасённый бутерброд. А когда диктор пожелал слушателям приятной поездки, и его голос сменился музыкой, спросила лунного:
— Как тебе?
— Волшебно! А давай его разберём?
— Зачем?!
— Чтобы узнать, как оно работает! Ты его заводишь, там внутри трещит — это рубины? А откуда берётся звук? Это явно совсем не так, как у лунных. Можно посмотреть, как там…
— А собирать его обратно мы как будем?
— Да соберём как-нибудь.
— Оно от этого сломается…
— Не сломается.
— А если сломается?
— Починим.
— Нет, — возмутилась я. — Мы не будем разбирать радио!
Лунный фыркнул, но замолчал.
— Радио мне нужно будет вернуть, — примирительно сказала я. — Оно дорогое, у меня будут большие проблемы, если с ним что-то случится. Зато я принесла тебе газеты, и с ними можно сделать вот так…
Самым сложным оказалось вбить в землю вилы: площадка была каменистой, укатанной, а у самой статуи и вовсе выложенной камнем. Проржавевшие вилы вбивались в грунт плохо, но в конце концов мне всё-таки удалось их вкопать и завалить кирпичным ломом так, чтобы черенок стоял почти вертикально.
— Левее, — рыцарь помогал, как мог. — И ещё чуть-чуть… Во! Теперь ровно.
Дальше было проще: я прибила к ветке дуба колёсико, вставила рубин и натянула верёвку кругом между ним и вилами. И, трижды сверившись с учебником, прочитала формулу вращения.
По задумке, теперь верёвка должна была ездить туда-сюда, и по кругу возить мимо рыцаря развешанные газетные листы. Что-то такое люди делали иногда с бельевыми верёвками. Правда, наверное, крепления там были устроены как-то иначе: мои газеты врезались в ствол и отказывались ехать куда-то дальше.
Будь я одна, наверное, села бы под дерево и побилась об него немножко головой. Но лунный с привычным уже энтузиазмом и оптимизмом предлагал идеи, и совместно мы всё-таки перепридумали эту газетную карусель.
— Это вместо книги, — пояснила я, сдувая волосы с лица. — Не очень удобно, но лучше ведь, чем ничего?
— Помедленнее бы, — задумчиво предложил лунный, следя глазами за проезжающими мимо него листами. Вряд ли он успевал прочесть больше, чем пару абзацев, как газета уже уезжала прочь.
В учебнике формула была в единственном варианте, а лунный владел своим языком, но не изначальным. Так что, как мы ни старались, замедлить колесо так и не удалось; впрочем, он был доволен и так — даже отрывки чтения веселее и интереснее, чем полное их отсутствие.
— Ты милая, — добродушно сказал лунный, когда я проверила, плотно ли стоят вилы, и засобиралась домой. — Я рад, что ты мне здесь встретилась.
Я смутилась и зарозовела, а потом пискнула:
— Я жду свою пару.
— Удачи тебе, — очень серьёзно сказал рыцарь. — Пусть к тебе будет добра… Полуночь?
Я кивнула. И, нервно дёргая себя за кончик косы, покатилась со склона в город.
xi.
Дарша плакала жалостливо, тоненько и как-то по-детски: хныкая, хлюпая носом и размазывая слёзы по лицу. Она плакала, пока складывала рабочий халат, и потом, когда переплетала косу, а после и вовсе села на скамью над своими сапогами, сгорбилась и уткнула нос в задранные колени.
— Эй, ну чего ты сопли-то распустила.
— К старшей можно ещё сходить…
— Письмо нужно написать в бухгалтерию. У них же выписки должны быть.
— Да и было б там с чего? Много ты за неделю наработала?
— Да даже если бы и голый пятак! Разве можно так с людьми? Это несправедливо! Мы все видели, и теперь мы должны все…
Это Алика, очень высокая и очень худая лопоухая девица, которая вечно ратовала за всё хорошее и против всего плохого, буйствовала и требовала идти на бригадиршу войной. Троленка присела рядом, обняла Даршу и гладила по голове, а Абра мощно похлопала по сгорбленной спине.
А Дарша всё плакала и плакала, тихо и жалобно.
Дарша была хорошая девочка, только ещё очень маленькая, едва после учёбы. Работала она медленно, да ещё и порой выдавала брак, за что регулярно получала нагоняи. И, конечно, когда она потеряла кошелёк с квитанциями, бригадирша высказала ей сразу за всё: и за рассеянность, и за криворукость, и за пересчёт ворон за окном, и даже за дурные осенние дожди.