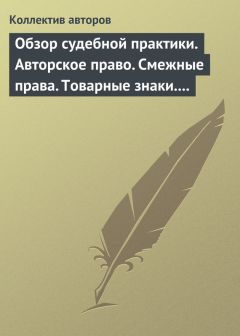Елена Арсеньева - И звезды любить умеют (новеллы)
А может быть, Айседора думала, что с нею ничего подобного не произойдет? Что ее возлюбленный просто не разглядит следов времени на ее лице? О господи, наверное, каждая женщина, которая потеряла голову из-за юного красавца, мечтает, чтобы он однажды ослеп…
Случилось то, что должно было случиться. Пианист не ослеп, а, наоборот, прозрел — и влюбился в одну из учениц Айседоры. Что характерно, юная красотка даже возмутилась, обнаружив, что ее учительница — «эта старуха!» — продолжает цепляться за умершую любовь Руммеля и не отрекается от своих прав.
Но в конце концов Айседора нашла в себе силы, чтобы отречься, и вернулась в Париж, в свой старый дом на Рю де ла Помп, свидетель и приют стольких горестей, стольких слез, стольких трагедий ее жизни. И снова ей казалось, что не отыщется для нее другого утешения, кроме смерти…
«Сколько раз в жизни я приходила к такому заключению! — со снисходительной улыбкой вспомнит она потом. — Меж тем стоит заглянуть за ближайший угол, и там окажется долина цветов и счастья, которая оживит нас. В особенности же я исключаю выводы, к которым приходит столько женщин, а именно, что после того, как им миновало сорок лет, их жизненное достоинство должно исключить всякую любовь. О, как это неверно!»
Спустя некоторое время вместо цифры «сорок» Айседора в этом умозаключении поставит «пятьдесят». Ее блистательное «жизненное достоинство» не исключило бы, наверное, и «шестьдесят», и «семьдесят»… Однако ни ей, ни нам уже не дано этого узнать.
Впрочем, вернемся в 1921 год, когда «долина цветов и счастья» открылась Айседоре в разрушенной России, в объятиях отчаянного русского поэта-хулигана.
Цветы в той долине оказались с таки-ими шипами, что в кровь ранили любовников. И Есенин, который бросился в эту связь, будто в омут, — совершенно как обожаемые Айседорой эллины «бросались в ночь со скалы Левкадской и безвольно носились в волнах седых, пьяные от жаркой страсти»[59], — Есенин, который когда-то гордо кричал Мариенгофу: «Ты ничего не понимаешь! Она великолепная любовница. У нее были тысячи мужчин, и я стану последним!», вдруг осознал всю правоту своего ехидного и злоязычного, ревнивого и циничного, но такого мудрого друга, сказавшего:
— Ты станешь тысяча первым, только и всего.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?
Есенин сделался невыносим. Не то беда, что он разбил вдребезги золотые карманные часы с миниатюрным портретом Айседоры, ее подарок. Он разбил их в пьяном угаре, не помня себя, это можно было простить, что Айседора и сделала тотчас. Не то беда, что порою он срывался бог весть куда — то на Кавказ, то в родимую деревню, где как бы навечно застыла на обочине дороги его мать-старушка в своем «старомодном, ветхом шушуне», которым Есенин почему-то бог весть как гордился, хотя при своих-то гонорарах, до копейки пропиваемых в компании прилипал, мог бы купить обожаемой мамаше шубейку или хотя бы обновить пресловутый «шушун», или что там надевают рязанские крестьянки, прежде чем сходить на дорогу, тая тревогу и шибко загрустив? Не то беда, что в доме Айседоры дневала и ночевала есенинская шобла, которая потом вдохновенно облыгала ее, вроде Мариенгофа, написавшего «Роман без вранья» (его следовало бы назвать «Роман из вранья»), или вроде ханжи, начетчика, «ладожского дьячка» Клюева (стихи его были подобны, по словам самого Есенина, телогрейке и от них «в клетке сдохла канарейка»), который, с выражением хитро… хитроумного, скажем так, богоборца на лице, любил вспоминать:
— Пришел я к ним рано-ранехоньку чаечку попить, а она, плясавица ента, Саломея, Иродиада, значитца, налила мне с самовару чаю стакан крепкого-прекрепкого. Хлебнул — и едва не окачурился, инда очи на чело повылезли. Коньяк оказался! Коньячишка! — И, покачав головенкой, волосы на которой были, конечно, подстрижены в скобку и щедро умащены маслом (а как же, Клюев ведь, по его собственным словам, был «не поэт, а мужик»), добавил: — Вот, думаю, ловко! Это она с утра-то, натощак, и из самовара прямо! Что же за обедом делать будут?!
Вообще-то в доме Дункан не было самовара, за исключением двухведерного, который стоял в ванной, однако Клюеву было это не суть важно.
Ладно, наговоры не беда, на Айседору наговаривали всю жизнь, она уже привыкла, что жизнь ее состоит из мифов и легенд. Куда горше было ей, что Есенин бил ее теперь не только физически (случалось и такое! а как же, ведь по-русски бьет — значит, любит!), но и унижал словами:
— Твоя слава — ничто, это слава недолгая. Танец — что такое твой танец?! Пока ты на сцене, все только и кричат: божественная и несравненная, а когда умрешь, тебя никто не вспомнит. А мои стихи будут жить вечно, мое имя — тоже!
Он словно не помнил, что́ лишь вчера делал с людьми ее танец на музыку «Славянского марша» Чайковского, перемежаемого «Марсельезой» и «Интернационалом». Айседора изображала раба, который побеждает свое рабство, олицетворенное двуглавым царским орлом. Эта птица, повисшая над сценой, особенно пугала людей, такой она казалась зловещей. Болгарин Христо Паков, бывший на том концерте, спустя много лет так описывал ее танец:
«Внезапно прозвучала мелодия ненавистного народу гимна «Боже, царя храни…». В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба…Но вот рабу удалось, освободив от цепей одну руку, схватить двуглавого орла…»
О кровожадной, пугающей птице, нависшей над танцующей Айседорой, вспоминали многие зрители. Но самое поразительное, что никакого орла на сцене или над сценой не было! Зрители увидели его только благодаря таланту Айседоры. И после этого Есенин твердил, что ее танец — ничто…
А впрочем, близко знавшие их люди заметили, что он не выносил ее искусства.
И еще больше не выносил ее превосходства над собой…
Вообще Есенин не мог видеть и понимать — его просто колотило! — когда кто-то оказывался лучше его, когда кто-то смотрел на него с чувством превосходства. Сразу оживало в памяти унижение, пережитое в начале его «вхождения в литературу».
По воспоминаниям поэта Георгия Адамовича, появился Есенин в Петербурге во время Первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым недоумением. Он был в валенках, в голубой шелковой рубашке с пояском, желтые волосы стриг в скобку, глаза держал опущенными долу, скромно вздыхал по поводу и без повода: «Где уж нам, деревенщине!» А за всем этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это у вас за гетры такие?» Именно поэтому Есенин быстренько перебрался в Москву и примкнул к «имажинистам», где почувствовал себя как рыба в воде. Потом начались его скандалы, дебоши, приступы мании величия…