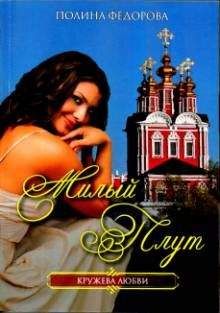Полина Федорова - Достойна счастья
— Да будет вам озорничать, — едва отдышавшись, проговорила Наталия, но, поддавшись настроению хозяйки, улыбнулась. — С чего это вы сияете, как медный пятак? Али случилось что?
— Еще как случилось! Ах, Таша… — Лиза закружилась по комнате и с размаху вновь упала на стеганое атласное покрывало, замерла, мечтательно уставившись в потолок.
— Да говорите толком-то! Совсем мне голову заморочили, — сверкнула любопытным взором горничная.
— Мы… то есть он, — Лиза запнулась, щеки ее полыхнули румянцем, — он меня… поцеловал!
— О-о-о!.. — изумленно протянула Наталия и притворно-недоуменно сдвинула белесые бровки. — Он? Это кто же? Уж не господин ли поручик Браузе?
— Браузе? — округлила на нее глаза Лиза и даже села на постели от неожиданности, но, заметив лукавый огонек в глазах наперсницы, досадливо махнула рукой. — Перестань, Наташа, я же серьезно. Он!
— Так, — на этот раз понимающе кивнула Наталия, — значится, Федор Васильевич соизволил-таки вас… поцеловать?
— Да. То есть нет. Это я соизволила ему меня поцеловать.
— И?.. — затаила дыхание горничная.
Далее полился разговор, скорее напомнивший бы постороннему человеку, вернее сказать мужчине, щебет заморских экзотических птичек, в котором слова значили гораздо меньше, чем интонации, вздохи и красноречивые взгляды. Ибо дамы, милостивые государи, в случаях экстраординарных прибегают к особому языку, где суть составляет не логика и рацио, а эфемерное дуновение чувств и умение проникнуться состоянием собеседника. Сии беседы служат не только и не столько средством передачи информации, сколько возможностью показать собеседнице свою солидарность, оказать ей моральную поддержку и совместно выработать дальнейшую коварную стратегию и желательно молниеносную тактику в отношении того индивидуума мужеского пола, до коего данная беседа касаема.
Трудно сказать, что принесло свои плоды: пленительная безыскусность Лизиного поведения, разившая Дивова вернее самых изощренных уловок записного кокетства, монотонность гарнизонной жизни, усугубившаяся с приходом вьюжной зимы, или собственная легкомысленность, но он не перестал бывать в доме генерала Тормасова.
Не смог он отказать себе и в удовольствии почти каждый день видеть Елизавету Петровну. Иногда — в церкви, ибо шел Рождественский пост и она часто стояла вечерню; реже — во время кратких визитов в дом Тормасовых, где, боясь вызвать толки, он более сидел у рояля и усердствовал в исполнении модных романсов; еще реже на прогулках по расчищенным от снега дорожкам Александровского сада. Задавая вопрос: «На кой черт мне это надо?» — Дивов отвечал, казалось бы, вполне правдиво. Потому что будущее его туманно и скорее всего безрадостно, а может быть, его и совсем нет? Потому что за каждой строчкой маменькиных писем, с расползшимися от слез буквицами, стояла глубокая скорбь за участь «горемычного дитяти», и он ничем не мог облегчить страдания трепетно-любимой родительницы. Потому что милая барышня Елизавета Тормасова была для него, как луч света из иной, утраченной им, жизни, как ласковое тепло летнего ветерка, наполненное ароматом трав и свежестью скорого освежающего ливня. Разве можно спросить у ветра: «Долго ли и в какую сторону ты будешь дуть?». Или того глупее: «Люблю ли я ее? Любит ли она меня?» Можно же, в конце концов, выбросив из головы думы о грядущем, позволить себе просто наслаждаться, тем, что у него есть здесь и сейчас, в сию минуту взглядом манящих кобальтовых глаз, ласковой улыбкой, от которой на щеках у Лизы появлялись премиленькие ямочки, будто случайными прикосновениями к молодому искушающему телу. Пока все этого у него еще было.
А потом пришла весна, задули с Балтики влажные ветра и принесли с собой душевную сумятицу и тревогу. Иногда, сам не сознавая как, Федор оказывался в гавани, с тоской смотрел на корабли, на речную свинцовую рябь, и душа рвалась вдаль от этих опостылевших мест, ставших тюрьмой. Он до боли желал вновь ощутить под ногами качающуюся палубу, увидеть над головой громаду парусов, услышать скрип снастей и резкие команды шкипера. Измученный мрачными думами, среди коих мелькала даже безумная мысль о побеге, он направлялся в единственное место, приносившее ему хотя бы подобие покоя и утешения, в дом Тормасовых.
Прелестная Лиза была неизменно приветлива и радушна, всегда умела находить какой-либо предлог, чтобы поговорить с ним накоротке, и даже присутствие неизменной Ольги Самсоновны не мешало им вести задушевные беседы. Чаще всего сей диалог незаметно переходил в монолог Дивова. Он увлекался и как-то незаметно для себя начинал рассказывать о своей жизни, о матушке, братьях и сестрах, о годах учебы, о долгих морских походах, о смешных и грустных происшествиях своих странствий. Умолчал, пожалуй, лишь о честолюбивых, казавшихся теперь наивными мечтах, в коих был он не просто Федором Дивовым, человеком похожим на тысячи других, а великим путешественником и первооткрывателем неизведанных стран и народов, который нес русичам — отсталым и диким — свет цивилизации и прогресса. Умолчал потому, что, возможно, сии мечтания и толкнули его в роковой день 14 декабря на Сенатскую площадь. Ибо не где-то в Америке или на островах Новой Зеландии, а здесь, в России, проживал тот самый народ, что нуждался в просвещении и освобождении от гнета векового рабства. Лиза была великолепной слушательницей, чутко отзывавшейся на все нюансы повествования, впитывавшей всем своим существом радости и печали, выпавшие на долю Федора. Как в магическом кристалле, видел Федор в ее глазах всю прошедшую жизнь и, надо сказать, это отражение ему весьма нравилось.
Когда пришло тепло, Дивов все чаще стал заставать Лизу в садике, и постепенно эти встречи утрачивали даже видимость светского визита, превращаясь в настоящие свидания, основной частью коих были пылкие поцелуи и объятия, доставлявшие Лизе неземное блаженство, а Федору, помимо наслаждения, естественно, муки неутоленного желания. У последней черты их удерживала вынужденная краткость свиданий, проходивших под бдительной охраной Лизиной наперсницы Натальи. Все глубже увязая в этом сладком плену. Дивов старался не думать о будущем, о дальнейшей своей и Лизиной судьбе. Но жестокосердый Рок не забыл о своем подопечном и не преминул вновь потянуть нить его жизни. На сей раз для осуществления своих планов Провидение выбрало образ бравого фельдфебеля.
7
На пасхальной неделе запыхавшийся вестовой передал приказание рядовому Дивову срочно предстать пред светлыми очами генерала Тормасова.
Уже перевалило заполдень. Ласково светило нежаркое апрельское солнце, и воздух был наполнен свежим ароматом только что проклюнувшейся молодой листвы. Неясная тревога охватила Федора, заставив замедлить шаг на подходе к комендантскому дому. Чем вызвана такая поспешность? Может ли это быть связанно с Лизой? Скорее всего именно с ней и с его собственным неосторожным поведением. Как теперь вести себя в столь сложной и деликатной ситуации? Что предпринять? Сотни вопросов, не находящих ясных ответов, проносились в голове Федора, пока он сидел в приемной, ожидая вызова. В лучах послеполуденного солнца, пробивавшихся сквозь тяжелые портьеры, танцевали пылинки, и Федор машинально следил за изысканными и беспечными арабесками, когда дверь кабинета распахнулась и адъютант Браузе, как показалось Дивову, нарочито официозно произнес: