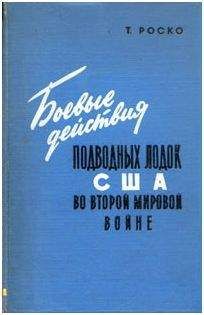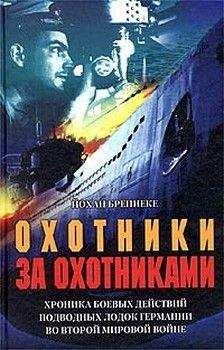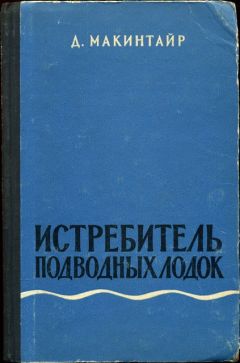Елена Арсеньева - Преступления страсти. Жажда власти (новеллы)
Она была умна не женским умом… А впрочем, что такое ум мужской? Чем он хуже или лучше женского? Опять же – и среди мужчин отыщешь множество людей неразумных. Софья была и разумна, и умна. Она обладала редкостной способностью не только видеть каждого человека насквозь, но и всякое жизненное явление проницать – предвидеть, что из сего явления, какие последствия могут произойти. Причем последствия те она умела высчитывать так же быстро, как делила, слагала, умножала либо вычитала цифры. А способности арифметические у нее были удивительные, куда до нее «умникам»-боярам, женский ум презирающим. И какая у нее была блистательная память! Она легко запомнила и латынь, и греческий, она словно бы впивалась в тяжеловесное сплетение виршей и Симеона Полоцкого, и того же Сильвестра, с одного разу могла выучить любую роль для домашнего театра. И не только выучить, но и прочесть ее так, что слушателей слезой прошибало при стенаниях какой-нибудь там Эсфири:
Когда б любовь была наградой, как просто бы жилось на свете!
Она змеею незаметно вползет в нутро – и жалит сердце,
Сосет его и изгрызает, своим злодейством наслаждаясь.
Я от незримой, несказанной, необъяснимой боли корчусь,
Змею-любовь изгнать не в силах… Иль просто не хочу изгнать?…
Такой ум, такие способности, обнаружься они у мужчины, называли бы государственными. А в женщине они казались ненужными, пугающими…
На счастье, князь Василий не принадлежал к числу тех мужланов-бояр, которые при малейшем проблеске этакой непривычности, как умная бабенка, готовы кричать «Караул!». Он начал присматриваться к Софье… И однажды обнаружил, что ее бдение у постели больного брата было вызвано отнюдь не заботой о нем – она всегда заботилась только о себе одной. Да и вообще: все ее слова, поступки, а главное – ее взгляды на мужчин одушевляемы совсем иным чувством, нежели просто непривычным, неженским желанием принять участие в устройстве государственных дел. Прежде всего Софья желала устроить в сем государстве свои собственные женские дела!
Сообразил это Василий Васильевич после того, как во дворце пташкой залетной промелькнула красавица Агафья Грушецкая.
Она была дочерью небогатого московского дворянина Семена Федоровича Грушецкого. После смерти отца воспитывалась у его сестры, своей тетушки, бывшей замужем за думным дворянином, дьяком Семеном Ивановичем Заборовским. И в Грушецких, и в Заборовских текла польская кровь. Царь Федор увидел Агафью во время крестного хода и на миг остолбенел от ее тонкой, не московской красоты, а потом послал приближенных выследить, где девица живет. Узнав, кто она, Федор тайно приказал Заборовскому не выдавать племянницу замуж. И многочисленным сватам, обивавшим пороги их дома в поисках руки Агафьи, было немедленно отказано.
Слухи о том дошли до Ивана Милославского. Брат покойной матери Федора, боярин Милославский был необычайно сильной фигурой при дворе. Он лелеял свои собственные планы насчет царского брака. Еще на памяти была царица Ирина Годунова, при которой фактическим правителем являлся не царь Федор Иоаннович, слабый духом и немощный разумом (совершенно как нынешний царь Федор!), а ее брат Борис Годунов, затем воссевший на престол. Именно об этом втайне мечтал Милославский, а потому намерен был подвести царю какую-нибудь из своих многочисленных свойственниц или дальних родственниц. По крайности – дочь преданного ему человека.
Узнав об Агафье, Милославский прибегнул к своему излюбленному и многажды испробованному оружию (с помощью которого ему, между прочим, удалось низвергнуть всесильного боярина Артамона Матвеева, первого друга и наставника Алексея Михайловича Тишайшего и воспитателя мачехи Федора, Натальи Кирилловны Нарышкиной): к клевете. Он начал распускать самые низменные слухи об Агафье и ее родных. Однако рухнул в ту же яму, которую рыл ближнему своему. Царь был влюблен не шутя и не хотел ничего дурного слышать о своей избраннице, а потому с гневом обрушился на Милославского. Боярин угодил в опалу.
Тем временем были устроены предусмотренные обрядом выборы невесты: только для виду, для исполнения векового обычая. Царь заранее знал, кого выберет. И Агафья Грушецкая стала московской царицей.
Многие недовольные говорили, что скоро-де на Русь вернутся обычаи первого Самозванца и Марины Мнишек! Агафья Семеновна дозволяла ношение при дворе польского костюма (между прочим, к тому же склоняла Алексея Тишайшего его вторая жена, Наталья Нарышкина, мачеха Софьи и Федора, что Милославскими было поставлено ей в вину после смерти царя), кунтуша и польских сабель.
Агафья Семеновна была известна своей добротой, заступалась за опальных – и в первую очередь за Ивана Милославского, который был возвращен во дворец именно ее усилиями. Однако добра он не помнил и немедленно начал распространять слухи, будто царь «скоро-де примет ляшскую веру, аки самозваный Дмитрий»… К слову сказать, вернувшись в Россию, вышеупомянутый Дмитрий немедленно вновь обратился в православие, но Милославского такие тонкости занимали мало.
Впрочем, царя Федора всякие там россказни никак не волновали. Он нежно любил жену и с восторгом ждал рождения ребенка. Однако день его появления на свет стал для него источником величайшего горя. 11 июля 1681 года Агафья Семеновна неблагополучно разрешилась от бремени, а спустя три дня скончалась вместе с новорожденным сыном, царевичем Ильей.
Софья, строго говоря, относилась к Агафье неприязненно, ибо опасалась, что та отнимет у нее власть над Федором. Опять же, Агафья своим обликом являла именно тот тип женской красоты, который был столь любезен иноземному вкусу и до которого Софье было далеко, как до луны. Ну в самом деле, не ножом же обстругивать, не топором же обтесывать крепко сбитое Софьино тело, чтоб она сделалась столь же суха плотью и тонка костью, как Агафья!
Единственное, что было для царевны в невестке привлекательно, это ее попытки ввести при дворе польскую моду не только для мужчин, но и для женщин.
В сарафанах да летниках, одинаковой ширины что вверху, что внизу, Софья чудилась себе неким чурбанчиком, который именно что просится, дабы его обтесали. А вот чужестранные наряды…
…Юбки в ту пору на€шивали широкие-широчайшие – да еще других юбок, нижних, для пущей ширины, надевали вниз и распирали бока особенными распорками, именуемыми «фижмы». В поясе (иноземцы именовали его изысканным словом «талья») дамы утягивались сколь могли сильно, употребляя для сего особые штуковины с железными пластинами, называемые корсеты, а груди выпячивали и оголяли (грудь у Софьи была столь пышна и округла, что просто грех ее прятать в наглухо застегнутых сорочках, а иноземная мода позволяла выставить ее напоказ). Корсажи платьев расшивали жемчугами и самоцветами, ими же унизывали высокие стоячие воротники, вырезанные зубцами. И волосы под убрусы отнюдь не прятали, а носили, по плечам раскидав, словно у архиереев. Софье всегда казалось порядочной несправедливостью, что священникам и монахам дозволено космы свои нечесаные да немытые казать всему честному народу, а женщинам красоту свою, чудные косы, до€лжно прятать. Честно говоря, косица у Софьи была не бог весть какая, Творец ее обделил и тут, однако кабы косицу сию распустить, да частым гребнем расчесать, да навить крутыми локонами, да разбросать их по нагим плечам или уложить вокруг головы, словно венок, скрепив заколками с крупными самоцветами… Чай, в царской сокровищнице самоцветов столько, что на каждый Софьин волосок нанизать хватит.