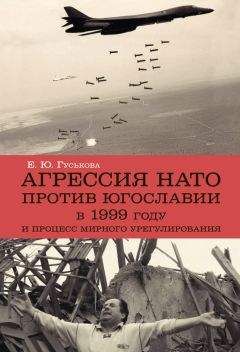Николай Сухомозский - За гранью цинизма
— Да помоет посуду и уберет со стола, — тут же провозгласил Николай, — всяк сюда входящий … в последнюю очередь!
— Предложение поддерживаю! — тут же поддержал Фомингуэй, которому заниматься столь прозаичным и малоприятным делом как раз подошла очередь. — Ставлю на голосование!
— Воздерживаюсь! — подал голос Пеликан.
И добавил:
— И от голосования, и от мытья.
— Черт с вами, согласен! — бросил на стол принесенный из дома сверток Задерихвост. — В надежде, что дама не откажет в квалифицированной помощи. Как думаешь, Фомингуэй, не напрасны мои надежды?
— Главное не в том, оправдаются они или нет, — принялся всерьез «философствовать» лаборант-многостаночник. — Соль — в другом. А именно в том, что время, когда живешь надеждами, — всегда прекрасно.
— Интересно, — наморщил лоб Николай, — есть ли в надеждах что-нибудь, кроме надежд? Что скажешь, артист? — повернулся он к Фомингуэю.
— Мы с тобой, кажется, в одном театре не играли! — беззлобно огрызнулся тот.
— Ошибаешься, — не унимался Николай. — Причем на все сто. Шекспир как написал? «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры».
— Великий драматург наверняка и не подозревал, как много в этой труппе плохих актеров, — Бородач придвинул табуретку поближе к столу и взгромоздился на нее.
— Тем не менее, — я хочу сыграть на сцене под названием Жизнь все без исключения роли, которые мне по душе. — Николай на мгновенье погрустнел, что ему было не свойственно. — Даже если отдельные из них с треском провалю.
— Ты забываешь о главном, — включилась в разговор Елена. — Проваленную тобой роль, не исключено, а скорее наверняка, другой сыграл бы с блеском. На «бис». Да и расплата тебе за провал — свист и улюлюканье «публики», а твоим «партнерам» спектакль может обернуться исковерканными судьбами.
Право, становится не по себе, когда хотя бы на миг представишь эти апокалиптичных размеров подмостки — планету Земля. Нас, таких разных и непохожих, наивных порою, а порою — жестоких. И «спектакль», продолжающийся без антракта день и ночь, год за годом, тысячелетие за тысячелетием.
— Глядя на «актеров», - Пеликан сегодня, похоже, бьет все рекорды болтливости, — невольно вспоминаешь один из краеугольных постулатов материализма: души не существует, она — ни что иное, как добросовестное заблуждение идеалистов. И начинаешь сомневаться.
Нет, ни в какую чертовщину я не верю. Равно как и в загробный мир. Отвергаю с порога всяких там Аланов Чумаков и Павлов Глоб, бессовестно — и небескорыстно, заметьте! — эксплуатирующих человеческое невежество.
Но в душу — да! Не в том смысле, что она обязательно материальна и не в том, что она есть субстанция, способная существовать отдельно от тела. Я верю в нее, как в совокупность всего лучшего, что накопила цивилизация в нравственной сфере. Только такое существование души «актера» делает его талантливым на «сцене». Сильным, но не жестоким. Добрым, но не бесхребетным. Готовым жертвенно служить, но не прислуживать.
— И все-таки, как часто многие из нас — «актеров» — уподобляются стае рассерженных домашних гусей. — Бородач допил кофе и поставил чашку на подоконник, у которого удобно расположился. — Они после того, как покричат на непонравившегося прохожего, расправляют внушительного размера крылья и с победным «га-га-га» бегут вдоль улицы. Глупые, жирные птицы, не отрываясь от земли, переживают благословенный миг полета. На самом деле им никогда не взглянуть из поднебесной высоты окрест, как многим их сородичам, но уже из разряда двуногих приматов.
— Блажен, кто верует! — съязвил Фомингуэй.
Николай, подражая записным трагикам, сложил руки на груди, потом картинно воздел их вверх:
— У-бе-ди-ли! Ухожу в режиссеры в театр имени Леси Украинки.
— Что за комедию тут ломаете? — порог бытовки переступил завлаб Георгий Павлович. — Перерыв, к вашему сведению, три с половиною минуты назад закончился. А науку двигают вперед не те, кто вовремя уходит с работы, а те, кто на нее вовремя является. Да и патриотом брюха ныне быть невыгодно — харчи дорогие.
Впрочем, я к вам с новостью…
— Неужели появились дополнительные средства? — воистину повозку мысли Николая подстегивать не приходилось. Слова у него вылетали, как камешки из-под колес мчащейся во весь опор телеги.
В другой ситуации подначить товарищи коллеги не преминули бы, но сейчас все внимание было сосредоточено на Георгии Павловиче.
— Да! — подтвердил догадку подчиненного завлаб. Начинаем уже завтра. Быть подготовленными, как к первой брачной ночи.
Георгий Павлович небрежно стряхнул невидимую пылинку с борта тщательно отутюженного пиджака:
— Развели тут антисанитарию, понимаешь!
— Уборщицу-то не мы сокращали, — оперся рукой о спинку стула Фомингуэй. — Да и особого беспорядка я не вижу. А со стола сейчас уберем.
Все в лаборатории, да и институте, знали о патологической любви Георгия Павловича к чистоте. Вряд ли он, как Владимир Маяковский, после каждого рукопожатия бежал мыть пятерню с мылом, однако носовым платочком вытирал обязательно. Правда, дела это интеллигентно, отвернувшись или на минуту выйдя, чтобы не обидеть мало знающего его человека. Так что и ворчание по поводу «грязи» в бытовке можно было отнести на счет прирожденного чистоплюйства. В остальном он оставался милейшим мужиком.
Начало исследований, позволяющих поддержать хоть на минимуме жизненный уровень их участников, задерживалось, выражаясь бюрократическим языком, по причине отсутствия доктора физико-математических наук Георгия Павловича Лелюха (сибиряки посредничали в этой сделке). Тот задерживался в Пхеньяне, где вел непростые переговоры с небогатым спонсором Ким Чен Иром о необходимости финансирования «открытия века».
Речь шла об идее старения света. Она существовала и раньше. Отвергалась теоретиками. Но сомневающиеся оставались. Причем и в смежных с физикой областях. Увы, ответить, хотя бы гипотетически, на вопрос, как же происходит столь фантастический процесс, не брался ни один из отстаивающих спорную точку зрения. И тут свою кость ученым подбросил малоизвестный химик из Гуляйполя. Парень работал на местном лакокрасочном заводе, но производство рухнуло. Вот в свободное время и ломал голову над столь далекой от сурика и белил проблемой.
По мере старения, доказывал он, свет смещается от одной линии спектра к другой. Иными словами, красный — это свет-новорожденец, оранжевый — свет-младенец, желтый — свет-подросток, зеленый — свет-юноша, голубой — свет-взрослый, синий — свет-старик и, наконец, фиолетовый — свет-доходяга, одной ногой стоящий в могиле. Что представляет собой такая «могила», какие неожиданности подстерегают ученых за невидимой границей фиолетово-спектральной линии, чем становятся, если гипотеза окажется верной, фотоны излучения какую невиданную форму матери они приобретают — вопросы возникают, что называется, на засыпку. Ответы хоть на некоторые из них и должен был якобы дать эксперимент, в котором объединялись северокорейские воны, предварительно конвертируемые в твердую валюту, российское хитромудрое посредничество и украинская дешевая, но высокопрофессиональная рабочая сила.