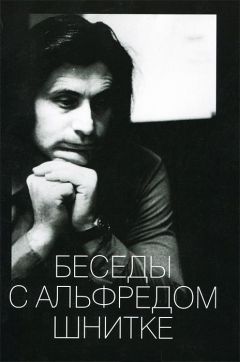Тесс Стимсон - Цепь измен
За соседним столиком молодая пара пытается угомонить визжащих ребятишек — девочек-близняшек лет четырех и полуторагодовалого мальчонку. У всех троих жуткий насморк, и они беззастенчиво вытирают сопливые носы обо все, что попадется: о рукава, друг о друга, о материнскую юбку. Вдруг малыш хватает мамину кофейную чашку и выливает на голову ближайшей из сестер. В отместку та переворачивает стол, опрокидывая выпечку, молоко и оставшиеся чашки кофе.
Под достигшие крещендо детские вопли родители устало встают и принимаются собирать детей, складные стульчики, панамки, курточки, сумки и игрушки.
Уильям нервно расправляет «Нью-Йорк таймс».
— Слава Богу, мои уже миновали эту стадию.
Я наблюдаю, как они уходят. Из меня вышла бы ужасная мать. Даже психотерапевт-новичок насчитал бы кучу рубцов на моей травмированной психической системе. Сбежавший отец-донжуан, пассивная мать, которая отреклась от ответственности перед собственной девятилетней дочерью: кто знает, какой урон я, в свою очередь, нанесу невинному ребенку? То же самое, что открыть холодильник, вслепую накидать в миску чего ни попадя и перемешивать двадцать лет, чтобы потом полюбоваться на результат.
Привлекательный мужчина лет тридцати пяти садится за освободившийся столик и попутно бросает на меня оценивающий взгляд. Ему определенно нравится то, что он видит. Улыбнувшись, он приподнимает чашечку кофе в знак приветствия.
Уильям напрягается.
Я намеренно рассказала ему о Купере. Осознавал Уильям это или нет, но смерть Джексона непременно должна была изменить его отношение ко мне: из-за невольного освобождения я могла теперь казаться ему нуждающейся, требовательной, даже вызывающей жалость. И тот факт, что я взяла и переспала с другим, одним махом искоренил подобное представление. Так внимателен Уильям не был с первых лет нашего знакомства.
Впрочем, ревность — опасная игра. Я ударила Уильяма по самому чувствительному: по самолюбию. Я доказала то, что хотела, и незачем перебарщивать.
Медленно поворачиваюсь к Уильяму, даже не взглянув в сторону незнакомца.
Потом мы, взявшись за руки, гуляем по Центральному парку — самое обыкновенное воскресенье для самой обыкновенной пары.
Из-за теплой погоды вокруг уже все цветет, воздух напоен сладостью и чистотой. Прислонившись к парапету Боубриджа, грею ладони на теплом камне. Уильям обнимает меня, осторожно опершись подбородком на мою макушку.
— Черт побери! — вдруг говорю я. — Я забыла в кафе книжку!
— Забудь. Ее уже давно кто-нибудь прикарманил. Купишь такую же в книжной лавке отеля.
— Ты не понимаешь. Она из особенной серии. Люси подарила ее мне на тридцатилетие. Я должна вернуться, должна найти ее.
— Элла, милая…
— Я не могу потерять ее, — начинаю паниковать я, — мы должны вернуться. Ты же знаешь, я ненавижу, когда теряется что-то из пары. Я должна вернуть ее, мы…
— Элла, — уговаривает Уильям, обнимая и гладя меня по спине как маленькую. — Забудь ты о книге. Лучше расскажи-ка о Хоуп.
Даже после того как хирурги установили, что в кишечнике образовалось отверстие, чего мы и боялись, я не теряла надежды; я была уверена, что им удастся спасти девочку!
Я была уверена… Но в итоге сепсис слишком широко распространился и врачи ничего не смогли сделать. Хоуп не вывезли из операционной. Ее маленькое храброе сердечко не выдержало еще там, на операционном столе, и она умерла в окружении мониторов, машин и медиков, которые и имени ее не знали. Одна, без тех, кто держал бы ее за ручку и говорил, что любит ее, что даже после пяти недель и шести дней ее жизни будет скучать о ней.
Я сама сообщила родителям. Дин рухнул как статуя Саддама, сложившись пополам в кресле, сраженный горем. Анна дала мне пощечину.
Когда я без слезинки говорю Уильяму, что Хоуп умерла из-за моей нерешительности, он не уверяет меня, что в том нет моей вины и что ничего нельзя было поделать. Он не сыплет привычными банальными фразами — дескать, я не должна чувствовать себя ответственной. Он понимает: никакие слова не изгладят горя и вины из моей души. Он просто крепко прижимает меня к себе, и на какое-то время мне этого достаточно.
На следующий день после обеда Уильям врывается в номер. Лицо у него мрачное. Я перестаю собирать вещи — у меня екает сердце. Значит, решение собрания не в его пользу. Он потерял контракт с «Эквинокс». Потерял свою фирму.
— Взял бы и придушил ее! — кричит он. — Какого черта она задумала? У меня и без нее проблем по горло!
Я распрямляюсь, сидя на корточках; в руках у меня коробки с туфлями.
— Кейт! — взрывается он, наконец, заметив озадаченное выражение на моем лице.
— Не понимаю. Какое отношение она имеет к «Эквинокс»?
— Что? А, нет. Собрание с «Эквинокс» прошло отлично. Хотя об окончательном решении сообщат завтра, думаю, моя взяла. Теперь Кейт устроила мне головную боль! Сбежала в Париж! Какого черта она там задумала?
Он плюхается на кровать и ослабляет галстук.
— Час назад звонила Бэт, вся в истерике. Кейт пропала, не оставив записки. Но она надела серебристые кроссовки и взяла рюкзак — значит, точно ушла по собственной воле. Бэт была готова уже звонить в полицию, я ее еле отговорил. — Подаю Уильяму бурбон из мини-бара, и он осушает стакан одним глотком. — Я в курсе, где она. Перед тем как я улетел, она осаждала меня, требовала отпустить ее к лучшей подруге в Париж. Проклятая Флер! Я знал: они что-то задумали.
— И что ты намерен делать?
— Для начала аннулирую ее кредитку! И зачем только я пошел у Бэт на поводу и позволил Кейт иметь свою карточку! Теперь расплачиваюсь за собственную глупость!
Вспоминаю полное решимости, бледное лицо Кейт, когда она у меня в кабинете пыталась расхлебывать кашу, заваренную взрослыми, всегда и во всем сведущими.
— Не делай этого. Не хочешь же ты, чтобы девочка оказалась без денег в чужой стране. Ты пытался звонить ей на мобильник?
— Выключен. Я попытался позвонить родителям Флер, но трубку взяла горничная-француженка, пропади она пропадом. То ли не понимает по-английски, то ли притворяется…
— Дай-ка мне номер телефона.
Коротко переговорив с горничной по-французски, передаю трубку Уильяму.
— Она там. Амели сейчас ее пригласит.
Стараюсь не обращать внимания на то, как Уильям орет на дочь. У меня и так уже мигрень, да и вообще что-то неважно себя чувствую. Мне жарко, кружится голова. Плечо болит так, словно я месяц играла в теннис. И с утра подкатывает тошнота — может, от мысли о том, что опять придется садиться в самолет, хотя в последние дни приступы паники вроде бы отступили. Видимо, нужно было отвлечься на что-нибудь более важное…