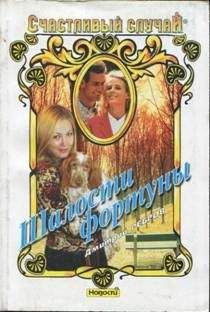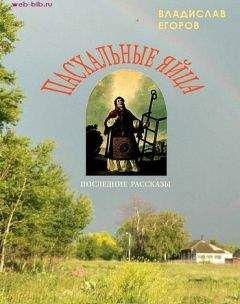Владислав Егоров - Букет красных роз
— Тебе, Володя, надо извиниться перед Иваном Александровичем. Ты же моложе, а над старшими нельзя шутить, — поддержала Римму Надежда. Голос ее дрожал, и, казалось, вот-вот она заплачет.
— Так я уже извинился, — пожал плечами Володя. — Однако я не гордый, могу и повторить. — Он сделал легкий поклон в сторону Хомякова и с той же дурашливой интонацией громко отчеканил: — Извиняйте, пожалуйста!
Хомяков в ответ буркнул себе под нос что-то нечленораздельное и принялся за компот, из чего можно было заключить, что он согласен на мировую. Отдавая пустую кружку Римме, он коротко сказал: — Мне будя. А вон Студенту еще капни, он компот любит. — И, взглянув на меня, счел нужным добавить: — Только ты особо не рассусоливай.
Это пожелание скорее надо было адресовать Володе, который пил компот не спеша, мелкими глотками, аккуратно сплевывая в кулак абрикосовые косточки, потом с хрустом разгрызая их и долго жуя ядрышки. Сначала я решил, что он просто хочет позлить Хомякова. Но, когда он лукаво подмигнул мне и кивнул в сторону комбайна, я понял, что ему надо остаться с Риммой наедине. Нет, решительно не в его правилах было пропустить хоть одну юбку.
Надежда давно уже стояла у своего копнителя, и, когда я проходил мимо, то увидел, что она неотрывно наблюдает за сценой прощания Володи с Риммой, и губы ее кривятся в презрительной усмешке. Хомяков на мостике подкручивал какую-то гайку и с таким остервенением, что вполне мог сорвать резьбу. Наконец Володя помог Римме спрыгнуть с полуторки, подхватив ее за талию и чуть задержав у своей груди, шепнул ей что-то на ухо и вразвалочку пошел к трактору. Он завел мотор, но с места не трогал, видимо, дожидаясь команды комбайнера.
— Шумни ему, Студент, чтоб ехал, — не поднимая головы, попросил меня Хомяков.
Конечно, в случившемся конфликте, мои симпатии были на стороне Володи, но, слушая, как Хомяков по-мальчишески шмыгает носом, вымещая досаду на ни в чем не повинной гайке, мне стало его чуточку жаль.
4Уже целую неделю стояло бабье лето — самая подходящая погода для уборки зерновых. С утра было свежо, но часам к одиннадцати солнце начинало припекать и распалялось все жарче и жарче, и лишь когда на небе появлялся бледно-тусклый месяц — всегда неожиданно и сразу высоко над горизонтом — на землю опускалась прохлада. Я вовсю старался использовать счастливую возможность в прямом смысле слова позагорать на рабочем месте, однако, к великому огорчению, загар, в конце концов, получился у меня, хотя и густым, но не сочински бронзовым, а каким-то грязновато-серым. Володин ДТ-I своими тяжелыми гусеницами размалывал землю в липкую невесомую пыль, которая, смешавшись с колючей соломенной трухой, оседала на теле и увлажненная потом едко въедалась в поры, отчего кожа не только приобретала отнюдь не ласкающий взор оттенок, но и нестерпимо зудела.
А вот Хомякову в этом пыльном пекле все было нипочем. Одевался он точно так же, как и в холодные ненастные дни. Его неизменный наряд составляли солдатская шапка, некогда серая, но с годами от частого вытирания об нее насквозь промасленных и просолидоленных комбайнерских рук здорово побуревшая, такого же цвета и возраста телогрейка, черная сатиновая косоворотка, сохраненная, наверное, еще с довоенных времен, защитного цвета ватные штаны, прошитые толстыми суровыми нитками, и изрядно стоптанные кирзовые сапоги, никогда не знавшие ваксы. О штанах стоит сказать особо. От своих собратьев массового пошива отличались они одной деталью, которая сразу бросалась в глаза. Ширинка в них не застегивалась на пуговицы или молнию — впрочем, молнии тогда еще не вошли в широкое употребление — а шнуровалась, как ботинки, крест-накрест. Причем, в качестве шнурка Хомяков приспособил двухжильный красно-зеленый электропровод.
При первом общем сборе нашего экипажа Володя, скосив глаза на причинное место комбайнера, с серьезной заинтересованностью спросил:
— Выкройку из «Крестьянки» брали?
— А-а, енто? — Хомяков, ничуть не смущаясь присутствия покрасневшей, как мак, Надежды, погладил ширинку. — Не, не из журнала. Сам удумал. Пальцы, паралик их расшиби, у меня плохо гнутые, с пуговицами одна морока, а тут расслабил чуток, и порядок. Опять же пуговичка оторвется и затеряется, а проволочке сносу нет.
Вообще, надо сказать, Хомяков был по натуре своей истым рационализатором. На мостике комбайна приладил он самодельный деревянный рундучок, где хранил слесарный инструмент, разнокалиберные болты, гайки, шурупы, шестеренки, мотки проволоки. Чтобы все это железо не дребезжало на ходу, оно плотно заворачивалось в кусок парусины и подтыкалось по всему периметру рундучка ветошью. В свободные минуты, что выпадали в ожидании хорошей погоды, наш комбайнер не сидел, сложа руки, а все что-то подкручивал, подпиливал, подтачивал, кустарил дефицитные запчасти.
Поэтому я был немало удивлен, когда в следующий приезд передвижной столовой Хомяков, разделавшись с компотом, не поспешил к комбайну, а подсел ко мне на край копешки и, кашлянув пару раз в кулак, сделал неожиданное предложение:
— Перекур, ребятки! Тебе, Студент, с Владимиром, небось, посмолить табачку хочется, а мы с девчатами просто посидим, побалакаем. Давай, Надюха, присаживайся на соломку, не боись, что твой труд порушим. И ты, Римма, не погребуй нашей компанией!
Нас с Надеждой не надо было уговаривать, а Римма, пожеманившись немного, мол, хоть мы и последние в ее маршруте, да нельзя задерживаться, дел в столовой невпроворот, все-таки приняла предложение, однако уселась наискось от нас рядом с Володей, хотя Хомяков и придвинулся ко мне, освобождая для нее местечко. Шофер полуторки, неразговорчивый угрюмый мужик, судя по всему, был некурящим. Пока шла наша трапеза, он предпочитал дремать у себя в кабине.
С минуту, наверное, все мы сидели молча. Наконец Хомяков, повертев в руках ушанку — обедал он всегда с непокрытой головой — глубоко вздохнул и обратился к Римме:
— Ты, девушка, давеча разгубастилась, рассерчала меня. Дык повиниться хочу. Я, енто, по простоте деревенской ляпнул чегой-то не того, но без всякого умысла тебя обидеть.
— Да хватит извиняться, дядечка! — досадливо махнула рукой Римма. — Я уж и забыла, что вы там сказали.
— Вот и ладненько! — заулыбался Хомяков, — Негоже когда люди друг на дружку зло держат. Я чего хотел тебя спросить. Ты, понял, городская будешь. Маненько бы рассказала о себе, как твоя жизнь устроена.
— Чудной вы какой, дядечка! — удивилась Римма. — Зачем это вам моя биография далась?
— Чего, енто, ты все время — дядечка да дядечка? — обиженно засопел Хомяков. — Раз мы помирившись, зови меня Иваном Алексанычем, а то и без затей просто Иваном либо Ваней. Тебе, гляжу, годков двадцать семь, как не тридцать, а мне в декабре сорок стукнет. Не шибко у нас большая разница в возрасте. А что касаемо моего к тебе интересу, дык енто при знакомстве навроде полагается друг про дружку порасспрашивать. Я, вот, к примеру, вдовый, а ты безмужевая али нет?