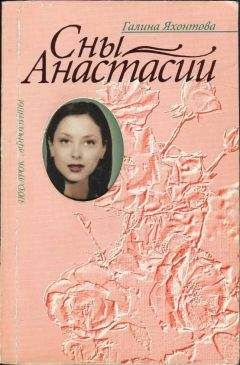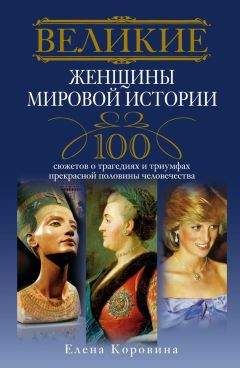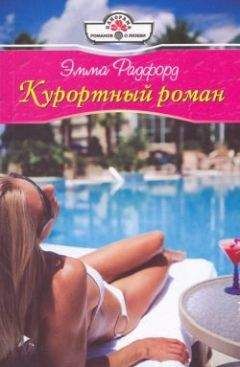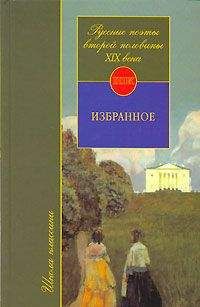Галина Яхонтова - Черная роза Анастасии
Анастасия случайно вспомнила, как в сердцах подумала о бедном животном: „Чтоб ты пропала“. Проклятие исполнилось с ошеломляющей быстротой, словно какие-то злые силы услышали его в скорбный момент отречения.
„Прости меня, кошечка моя, — бормотала Настя сквозь слезы. — Бедная моя, я так хотела впустить тебя сегодня в новый дом. Это я виновата, что тебя поймали живодеры.“
— По кошке плачешь?
Володька Старых, как всегда, был в полгода нестиранной рубахе и когда-то синих, местами перепачканных до черноты джинсах.
— Где она? Ты знаешь, Володя? Скажи мне, где Гера?
— Видишь ли, какое дело…
— Говори же!
— Ну, вчера, сама понимаешь, ребятки пили. А утром нужно опохмелиться. Так Белокопытов с Коробовым эту самую, ну, кошку твою, поймали и на Бутырском рынке продали. Попросили ровно столько, чтоб бутылку купить.
— Что?! — Настя не могла поверить собственным ушам.
— Все правда. Мне тебя жалко, знаю, как ты эту кошку любила, — потому и говорю. А Ростислав, сама знаешь, как „примет“, так вовсе невменяемый становится. У него даже глаза белеют. А после вчерашнего обсуждения так и вовсе парень запил.
Настасья, как фурия, ворвалась в полутемную „Сибирь“, где только-только, судя по сервировке, собрались за столом постоянные посетители. На глазах у изумленной публики, у розовощекого с морозца Коробова она хватила об угол стола еще неоткупоренной бутылкой „Пшеничной“. В гробовой тишине прозрачная лужа растекалась по давно немытому полу, словно пыталась уничтожить вековую грязь.
— Я тебя ненавижу! — Она произнесла эти слова в пространство, но все присутствующие поняли, к кому они были обращены.
— Ты — меня? Шлюха! Таскаешься на иномарках со всякими типами! И дите у тебя не от меня. Ты уже в семнадцать лет была не девочкой. У-у, б…!
— Я тебя ненавижу, — спокойно повторила Настя.
Вещи были собраны. Слава Богу, сумка получилась не слишком тяжелая, хотя за время, прошедшее со дня пожара, вещей прибавилось.
Единственные туфли Настя положила сверху — чтоб не деформировались. А поверх туфель оказался чудесный шелковый платок, светлая память о сари, о буддийской сказке Германа Гессе, об Индии, в которой она никогда не бывала.
— Собралась уже? — Марина выглядела очень озабоченной.
— Да, вот… Хорошо, что ты пришла. Присядем на дорожку.
Марина достала из шкафа остатки орехового ликера и две рюмочки.
— Выпьем за все хорошее?
— Нет. Я не пью.
— Так значит, это правда?
— Что?
— То, что в общаге говорят. Ну, что ты рожать собралась.
— Наверное, правда, Марина.
Подруга посмотрела на Настю долгим-предолгим взглядом и сказала:
— А знаешь, я тебе завидую. Ребенок — это уже совсем другая жизнь. Уже понятно — зачем. А я вот сейчас в институте Склифосовского была, Петропавлова навещала.
— Что с ним?!
— Не волнуйся, будет жить. После того злополучного секса по телефону выжрал все мамашины таблетки — она у него очень больна. Отравиться хотел, видите ли.
— Он хороший, Марина.
— Что значит хороший, если я его не люблю? Когда нет любви, то не поможет ничего. Ни-че-го. Даже то, что можно было бы прописаться в их квартиру… Ты же знаешь, как мне не хочется возвращаться в Воронеж, снова плюхаться в провинциальное болото.
— А может, все-таки?..
— Нет, — вздохнула она, — я заработаю деньги на прописку с помощью „секса по телефону“. Вот такие парадоксы жизни…
— Весна скоро.
Обе посмотрели в окно. Но увидели только белые крыши и балконы. „И на каждом балконе на тонком слое снега отпечатались чьи-то следы“, — представила Настя.
И вот она опять в своем доме, в котором прожила практически всю так толком и не начавшуюся жизнь. Снова лестница оказалась испытанием для ее дрожащих от непонятного волнения коленок. На площадке родной квартиры она долго искала ключи в сумке, набитой всякими мелочами.
Но Евгений не стал помогать ей. Его твердая рука спокойно держала еще одну связку. Наконец замок поддался.
— С Богом, — сказал Пирожников.
Они наконец вошли в дом, чуть-чуть официальный, пока необжитый, как бы затаившийся без людей. Настя устало опустилась на диван, к собственному удивлению, не испытывая радости возвращения. Всего лишь — покой и воля. То, чего у нее не сможет теперь отнять никто. Пирожников молча положил запасные ключи на журнальный столик.
— Вот и все, Настя. Кажется, моя роль в твоей жизни закончена.
— Не говори так, Женя. — Она произнесла это спокойно и устало.
— Я, пожалуй, пойду. Если захочешь, позвони.
Рядом с ключами появился холодный прямоугольничек визитной карточки, необязательный, как опавший листок.
— Конечно, Женя.
Он тихо прикрыл за собой дверь. Еще несколько минут она сидела в оцепенении, сходном, пожалуй, с чувством, которое могли бы испытывать статуи, привыкая к пьедесталу. Окна, лишенные штор, которые были заменены на модные нынче, но уж очень неженственные жалюзи, ненадолго вызвали чувство легкой антипатии. Но безразличие было сильнее: пусть все остается как есть.
На полочке в прихожей Настя заметила пару мужских перчаток из толстой кожи сернисто-желтого цвета. Пальцы перчаток, вздутые и полусогнутые, напоминали знакомую живую руку. Единственную руку в мире, ставшую для нее рукой помощи.
* * *Слава провидению, что в новом доме ничто больше не навевало никаких воспоминаний, что не было больше старых писем и дневников. Полудетские воспоминания о первой поэтичной любви сгорели синим пламенем. Нет больше писем, фотографий… Нет в природе того Ростислава. Есть только этот — инфантильный и ничего не понимающий в жизни мужчинка, неспособный взять на себя ответственность не только за близких, но и за себя самого.
Анастасия понимала, что должна быть сильной женщиной и сама находить выходы из жизненных завалов… Хоть такая тактика и претила ее женской природе. Но из безвыходного положения может быть всего два выхода: либо броситься с моста вниз головой, либо искать новый жизненный путь.
Она вспомнила, что почти три месяца не звонила Марку Самойловичу, своему милому работодателю.
„Позвоню обязательно, — поклялась себе Настя. — А пока надо спуститься в гастроном“.
Она купила пакет молока, пачку масла, банку зеленого горошка, приличный кусочек ветчины и половинку буханки хлеба, которой должно хватить как минимум дня на три. С мыслью о том, что хорошо бы купить немного овощей, Настя направилась в сторону соседнего магазина.
И вдруг увидела на предвесеннем снегу следы, рисунок которых действовал на нее как гром с ясного неба. Они были совсем свежие, потому что их оставлял некто, быстро идущий шагов на пять впереди и стремящийся продвигаться еще быстрее, обгоняющий прохожих. Настя как завороженная смотрела на цепочку следов, потихоньку превращавшихся в лужицы. Она боялась поднять глаза. Боялась узнать его, своего злого гения. Но все-таки она заставила себя поднять глаза. Сначала она увидела коричневые ботинки, высокие, словно полувоенные. Потом вправленные в них джинсы. Дальше — дубленый полушубок и большую енотовую шапку. Настя никогда не видела его в этой одежде, потому что познакомились они весной, а расстались осенью… Но „зима“ в ее отношениях с этим человеком все же была, потому что, как она теперь понимала, это он превратил ее жилище в подобие дупла, это он обрек ее на бездомную жизнь. Он — несчастный мазохист-некрофил, вредный мальчик Валентин. Она узнала его, узнала с одного взгляда, не видя лица, но улавливая в походке, в движениях нечто знакомое. „Что же, бежать и звонить в милицию?“