Анастасия Комарова - Чудовище и красавица
Такого позора школа, несколько лет занимавшая первые места в районе по строевой подготовке учащихся, еще не знала. Зато в каком восторге были зрители — то есть эти самые учащиеся, с изумлением наблюдавшие, как отряд бэшников разворачивается кругом и стройными колоннами удаляется со школьного стадиона в неизвестном направлении, не имея ни малейшей возможности услышать жалобные крики энвэпэшника. Потому что все посторонние звуки напрочь заглушались лихой отрядной песней.
«Я пыта-а-ался уйти от любви-и-и…» — бодро тянули десятиклассники. Мальчики чеканили шаг и лихо размахивали переросшими рукава руками, а девчонки изо всех сил выполняли команду старосты, когда она с наслаждением повторяла неизменный наказ «воеводы»:
— Джапаридзе, грудь вперед! И ты, Гусева, тоже грудь вперед! Волос у тебя, Гусева, длинный, а ум короткий!
Так, строем и с песнями «Наутилуса», они прошагали все три остановки до парка, где катались на ржавых цепочных каруселях и ели мороженое до тех пор, пока сумерки не сгустились в ветреных осенних аллеях.
Впрочем, не все их выходки были злыми. Иногда они и сами не знали, куда деваться от собственной благости и положительности. Однажды Коцюба, увлеченная и добрая математичка, имела неосторожность намекнуть, что вот, мол, на дворе весна, а ей уже сто лет никто не дарил цветов. Единственное черемуховое дерево, мирно растущее во дворе у школы, было ободрано и в виде огромных, одуряюще ароматных букетов притащено в класс. И там, прямо посреди чужого урока, они были подарены растерявшейся от счастья и возмущения женщине. Когда уже на следующей перемене директриса резонно отчитала их за хулиганство, порчу зеленых насаждений и разбазаривание природных ресурсов, они, оставшись после уроков, засадили весь двор выкопанными на окраине парка молодыми елочками.
В тот год они ездили «по обмену»: Таллин — Рига — Вильнюс — Каунас — Тракай. Тамара, химичка и классный руководитель, была, несомненно, лучшая, относительно всех остальных. Но и безотносительно кого бы то ни было, она была классная! Они догадывались об этом уже тогда, или, скорее, чуяли на уровне инстинкта, а окончательно уяснили только после той поездки в Прибалтику.
Она вздыхает сочувственно и уважительно. Только теперь можно оценить Тамарин героизм. Действительно, каким надо быть героем или как надо любить этих сумасшедших детей, чтобы взять да и вывезти под свою ответственность компанию шестнадцатилетних оболтусов на целую неделю в другой город…
Все же она вываливает на туалетный столик содержимое приятных размеров косметички. Как-никак в ресторан.
А у Катьки вроде голос был веселый. По крайней мере, по телефону. Такой же озорной и уверенный, как раньше.
Раньше — когда весна для них начиналась чуть ли не в феврале, а уж к концу апреля ее не знали куда и засунуть, настолько она обостряла чувства и эмоции, не давая спать по ночам.
Она уныло улыбается своему отражению, чтобы как-то его подбодрить. Ведь оно, бедное, вот-вот заплачет. Ибо теперь голос подруги может разбудить в ее сердце лишь бедные отголоски тех забытых чувств…
Это было на зимних каникулах. Погода стояла что надо — снег с дождем, мороз с ветром, насморк с ангиной. Лед под ногами удивительно быстро превращался в слякоть, а слякоть — снова в лед, неровный, серый и очень скользкий.
В полутемном пахучем плацкарте сразу началась анархия. Стоило всем, включая Тамару, переодеться в майки и треники, как безвозвратно и необратимо потерялось куда-то понятие субординации, а заодно и вообще все понятия. Они курили в форточку, зависали в ледяном тамбуре, глубокой ночью, когда все уснули, ели жареную курицу в тесном нестерильном туалете. Этот поезд и все дальнейшее навсегда остались в Дашкиной памяти как волшебная, слегка размытая холодная сказка.
В Таллине они жили в школе, обычной во всем, кроме одного — через дорогу от школы был глухой высокий забор, а за ним — зона. Тюрьма! Это было дико и удивительно само по себе, и они с любопытством и веселым страхом смотрели в окна — на вышку. А с вышки на них смотрел реальный охранник с реальным автоматом.
Утро начиналось смешно и мучительно. За черными окнами метался мокрый снег, и туман был серый, еще серее, чем в Москве, но на зоне подъем начинается рано. А эти дни они жили по законам зоны. В шесть утра их заботливо оглушал гимн Советского Союза, потому засыпали тоже с отбоем. Вернее, не засыпали, а ложились. И начиналось: кто-то хихикает, кто-то шепчется, кто-то все время ходит в туалет, кто-то вкусно хрустит сухарями и фантиками от конфет, Тамара ругается, все отнекиваются.
— Вот кто сейчас шуршал? Гусева! Как вам не стыдно, единоличники! Дело не в том, что после отбоя, но почему вы ни с кем не делитесь?!
— Тамара Ивановна, это не я, — возмущается Гусева, в темноте запихивая за щеку очередную шоколадку.
— Ильин, прекрати балаган! Зачем чайник по столу едет? Вот он сейчас разобьется, и что?! Я ведь отлично вижу, что ты его за веревку тянешь!
— Да я вообще сплю, вы что?!
— Знаю я, как ты спишь…
И так часов до двенадцати. Потом Дашка засыпала. Ноги гудели и грелись в шерстяных носках, заставляя с благодарностью вспоминать маму, а перед глазами, стоило только их закрыть, мелькали красные черепичные крыши на серых каменных башнях, зеркальная вода озер Тракая, плевки взбитых сливок на киселе в уютной кафешке у ратуши.
Утром она честно не знала, кто сшил все рукава на одежде мальчишек, кто связал шнурки на ботинках девочек и вывесил их над сценой, как новогоднюю гирлянду. Они жили в актовом зале, и девчонки разбросали жесткие физкультурные маты прямо на сцене — там было теплее, к тому же гораздо натуральнее выглядел обязательный ежевечерний стриптиз. «Театра-а-аль-ные подмостки — для таких, как мы, бродяг!» — хором орали они вместо колыбельной, закутываясь в уютные спальники.
Там Дашка полностью отвлеклась от всего московского, и от влюбленности в Ильина тоже. Почти не замечала его в галдящей толпе одноклассников, слишком уж много было впечатлений, уж очень завораживали страшноватые, уродливо-притягательные лики деревянных ангелов в Домском соборе и огромный серебристый орган.
Сидя на жестких католических лавочках, они хихикали и шептались, придумывали подходящий предлог, чтобы сбежать на улицу. Тамара была бы в отчаянии, если бы не была Тамарой.
— Жалкие, ничтожные личности, — презрительно констатировала она и все же советовала: — Прислушайтесь, олухи, — это же Бах!
Они ржали уже в голос, Дашка тоже, и однажды неожиданно остро пожалела об этом, случайно увидев в конце концерта, как плачет усатая Ленка Рабинович.
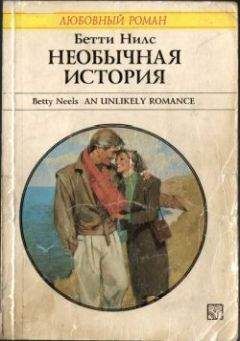
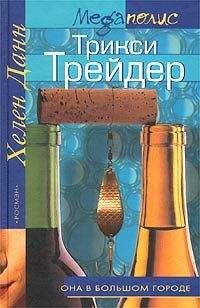
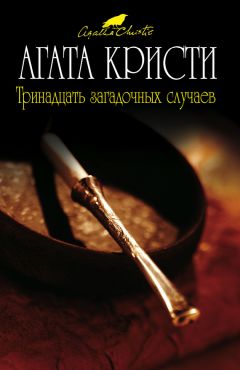
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
