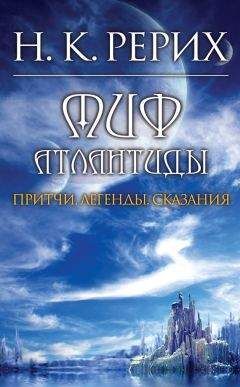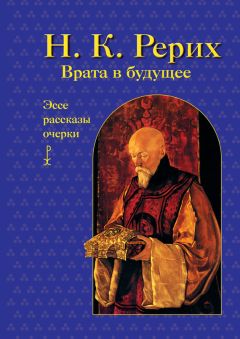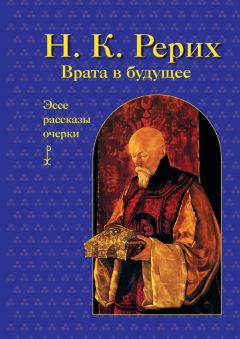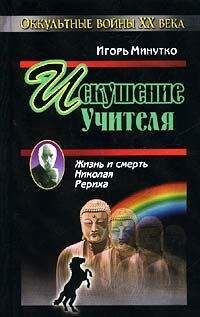Монго Макколам - Путешествие в любовь
Доктор Лернер продолжал говорить, и его тихий, спокойный голос, казалось, помогал ей проникнуть взглядом сквозь стену далекой церкви.
— Они вошли в церковь, — зашептала она, — всеми командует миссис Джири, показывая, как крепить цветы на спинках скамеек. Ей следовало бы…
— Да-да? — с интересом отозвался доктор.
— И… — Слова, описывающие то, чего нельзя было увидеть, улетели, унесенные, должно быть, волной врожденной застенчивости. Но зрение осталось. Она точно знала, что сейчас миссис Джири остановилась перед алтарем. Остальные смирно ждали за ее спиной. У их ног лежали плоды земли, которые скоро украсят сосновые скамьи, кафедру и алтарь. Там были огромные тыквы и охапки цветов — золотистых настурций и красных хризантем. Цветы на платье миссис Джири заиграли, когда она, обернувшись, принялась раздавать обязанности: миссис Дейли будет украшать пучками настурций скамьи, Элеонор укрепит на кафедре хризантемы, мистер Дейли должен помочь жене, а они с мистером Хиггинсом займутся алтарем…
Часы в гостиной пробили три раза, и их вибрирующий звук проплыл над садом. Она прислушалась. Били ли четвертый удар? Нет, лишь эхо, отраженное высоким белым небом, в котором одиноко и лениво кружила ворона.
— Три часа… — вслух сказала она.
Ее охватила дрожь, и она нервно зевнула. Те, в церкви, вернутся не скоро. Она зевнула еще раз.
— Да, — кивнул доктор Лернер. — Три часа. Вам следовало бы немного вздремнуть.
Обыденность этой фразы заставила ее рассмеяться.
— Таково ваше лечение?
— Да. Короткий сон пойдет на пользу.
Доктор, задумавшись, сидел рядом и вдруг заметил у ее ног листок бумаги. Он поднял его и прочитал вслух:
— «Элеонор, Элеонор, Луне подобный взгляд»… Спите. И пусть вам приснится ваша ненаписанная поэма.
Уже засыпая, она улыбнулась ему.
Она спала и видела сон. Ее окружало море цветов, и она могла заглянуть в душу каждого. Огромные, они раскрывались перед ней, и она любовалась скромными сердцами настурций и гордыми сердцами хризантем. Цветы пели ей на языке, который она часто слышала и понимала, и жаждала, но не могла говорить на нем. «Мать Земля, мать, жена и дочь Солнца», — пели цветы, и все, стоящие перед алтарем, вторили им. Облаченная в поющие цветы миссис Джири распустила волосы. Потоками кроткого огня они скатились до ее колен, и цветы в них засверкали и расцвели изумительными красками. «Мама Джи, — пели они, — где Рей, где твой муж Рей?» А миссис Джири смотрела туда, где Элеонор-Луна светилась желтым, ослепляя мистера Дейли, сводя его с ума. Волосы миссис Джири стекали вниз, покрывая голубоватый Старый улей. В исходящих от них лучах бледный сосновый крест тянулся к небу, и бледный отец Хиггинс опустился перед ним на колени. Она, Элизабет, что-то говорила, но не слышала своих слов. Тогда она крикнула громче, протестуя против этой внезапной глухоты, но снова не услышала себя, а все вокруг отвернулись от нее. И огромная куполообразная пустота там, где был ее эвкалипт, поглотила цветы. Эта пустота лишила ее последних сил, и она растворилась в воздухе, превратившемся в огромную стеклянную волну, напоминавшую наклоненную башню или изогнутую стену. Она пыталась прокричать слова, которые разбили бы эту волну и решили бы все. Она не знала этих слов, но чувствовала, что если бы могла произнести их вслух, они пришли бы сами…
Она проснулась от собственного крика.
Мгновение Элизабет лежала молча, а потом прошептала:
— О, как бы я хотела… — Она отбросила волосы с влажного лба и, запинаясь, закончила: — Как бы я хотела… писать стихи!
— Нет ничего невозможного. — Доктор Лернер по-прежнему сидел рядом, царапая землю прутиком. — Все вокруг нас таково, каким мы это видим.
Вечер окружал их, как золотой океан, подернутый рябью птичьих трелей.
— А теперь, — предложил он, — давайте прогуляемся.
— Еще одна процедура? — сонно улыбнулась она.
— Я не настоящий доктор, — терпеливо повторил он и добавил: — Меня больше интересуют атомы.
Атомы. Опять это слово. Но сейчас оно не вызвало в ней страха.
— Многие люди боятся атомов, — продолжал он размышлять вслух, — но из них состоит весь мир. А мира не стоит бояться, ему надо удивляться… Ну так как, идем?
Надо не бояться, а удивляться… Она посмотрела на полоску дороги, на желтую, неподвижную, выжидающую ленту бесчисленных атомов. Проследив за ее взглядом, он тихо добавил:
— Мы пойдем туда, откуда все видно. Далеко идти не придется.
Он помог ей подняться. Она снова посмотрела на дорогу. Это стало не просто необходимостью, а частью некого ритуала, который обязательно надо довести до конца.
Они побрели через сад. Из гостиной донеслось четыре удара, и их звуки поднялись над соснами, под которыми они шли. Она и не подозревала, что проспала так долго. Около поленницы чистым белым цветом сверкали свежие щепки. На холме перед ними верхушки эвкалиптов, залитые лучами заходящего солнца, раскачивались, как золотые шатры, и с их ветвей доносилась песня вернувшихся в свои гнезда птиц.
Они подошли к калитке из иссушенного солнцем, растрескавшегося дерева. Словно во сне, она склонилась над ней, и та превратилась в целый мир, а каждая трещинка — в долину, где обитали крошечные существа. По одному из каньонов торопился домой черный муравей. Краем глаза она заметила его движение и отпрянула, но не потому, что испугалась, а просто не желая смущать его.
Они миновали калитку, и она, верная своему ритуалу, оглянулась назад, на дорогу и церковь. К ней вернулось ее внутреннее зрение, и она снова видела, что в церкви светлело по мере того, как настурции, пучок за пучком, украшают спинки скамей. Все — и мужчины и женщины — почти не разговаривали, поглощенные общим делом.
Медленно шагая по тропинке со своим новым другом (а она уже считала его таковым), девушка невольно подумала о том, что люди много говорят лишь тогда, когда им нечем заняться. Самые молчаливые люди — одинокие, потому что они заняты всегда. Заняты собой.
Тропинка, бегущая среди деревьев, кора которых свисала со стволов многоцветными лохмотьями, походила на диковинную зебру — красную глину пересекали темные тени. Она привела их к небольшому ручью. Украшенный драгоценными осколками кварца и разноцветными камешками, он пел свою тихую песню, журча у ног, когда они пересекали его по шатким мосткам.
Они поднимались по пологому склону. Доктор что-то говорил, но Элизабет не понимала сказанного, воспринимая его голос как часть музыки вокруг себя. А слышала она все — от сердцебиения муравья до дыхания земли. Все эти звуки сплетались в спокойную фугу в ритме постижения и завершения.