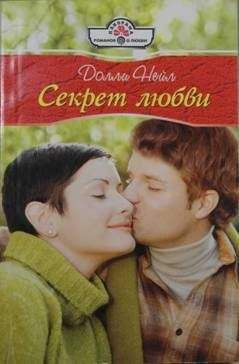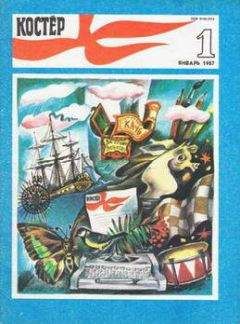Джоконда Белли - Воскрешение королевы
Смирять себя я не умею. Я много читаю и как-то раз вступила в философский спор с самим Эразмом Роттердамским, который, по словам духовника моего брата Педро Мученика, был поражен моими познаниями. Я свободно говорю по латыни, по-французски, по-английски и еще по-итальянски. Мне нравятся рыцарские поэмы Мэллори и Боярдо. Но больше всего я люблю «Тристана и Изольду» фон Страсбурга. Великий Дюрер показывал мне свои гравюры и рассказывал о причудливых фантазиях Босха. Мне посчастливилось жить в эпоху великих открытий, возрождения античной философии, гениальных художников: Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли. Мне нравится умение фламандцев превращать в произведения искусства обычные вещи — от кухонной утвари до крошечных ладанок, которые мастера умудряются украшать прелестными миниатюрами. К сожалению, близкие нисколько не ценят моих талантов. Мать часто повторяет, что женщины не должны подчиняться мужчинам. Однако такое право она, по всей видимости, распространяет только на саму себя. Только она может править государством и водить войско в бой. Всем своим дочерям Изабелла отвела роль разменных карт в политической игре. Все мои братья и сестры получают достойное содержание, и только я брошена на милость фламандских придворных, которые ненавидят меня за то, что я испанка. Я нищая, у меня нет и жалкого мараведи[12] чтобы одарить своих слуг. И они покидают меня один за другим. Я не могу оказать подобающий прием посланникам родителей. Остается лить слезы, проклиная судьбу и Филиппа, который не желает привечать испанцев.
Окружившие мою мать церковники порицают меня за страсть к мужу. Никто не говорил мне об этом в лицо, но молва людская, что волна морская. Я знаю, что Торквемада, Сиснерос и прочее воронье в черных рясах на чем свет стоит клянут «фламандское бесстыдство». Радость жизни для них равна отсутствию веры. Лицемеры. Поносят меня за любовь к мужу, а сами уговорили родителей поддержать папу Александра VI в его дрязгах с Францией. Или они не слышали, что говорят о семействе Борджиа? Не знали, что понтифик поселил свою любовницу Джулию Форнезе в двух шагах от папского дворца? Что у него есть три сына, которых он назначил епископами? Моя кузина Хуана Арагонская, жена герцога Амальфи, писала мне из Неаполя об оргиях, которые устраивает Чезаре Борджиа[13]. Он разбрасывает по полу каштаны и заставляет нагих женщин собирать их, ползая на четвереньках. Не каких-нибудь куртизанок, а благородных дам. А мне ставят в вину любовь к мужу. Неудивительно, что во Фландрии так не любят испанцев, предпочитая нам французов. Разве можно их за это винить?
Моя золовка Маргарита не устает ужасаться испанскому варварству. Она была в Гранаде и посещала чудесный мавританский дворец Альгамбру в тот день, когда духовник моей матери Сиснерос, аскет и фанатик, приказал сжечь все арабские книги, которые найдутся в городе. Бесценные труды по математике, агрономии, медицине запылали на огромных кострах. Прелат согласился помиловать всего триста книг. Маргарита утверждала, что некоторые фолианты удалось спрятать, но большая часть библиотеки, в которой нам с Беатрис Галиндо посчастливилось побывать вскоре после завоевания Гранады, безвозвратно погибла.
Наслушавшись историй об аутодафе и зверствах Торквемады, которые Маргарита рассказывала зимними вечерами у огня, Филипп стал видеть во мне соучастницу учиненных моими родителями зверств.
На поверку мой брак оказался чем-то вроде дракона о двух головах. У Филиппа нежность и страсть легко сменялись пренебрежением. После дивной ночи он мог встать в дурном настроении и часами со мной не разговаривать. Холодный и заносчивый, он унижал меня при всех, демонстрируя, как я ему наскучила. Мое тело еще хранило запах мужа, а он, оказывается, уехал в Лювен, позабыв меня предупредить. Об отъезде эрцгерцога мне между прочим сообщила мадам де Галлевин, когда я слонялась по дворцу, как собака, потерявшая хозяина. В отчаянии я дни и ночи напролет гадала, чем прогневала супруга. Единственной отрадой для меня стали воспоминания о былом счастье. Даже смех моих детей не мог разогнать тоску и страх, охватившие меня после исчезновения мужа. Трещина, что пролегла между нами, грозила превратиться в пропасть.
Когда я узнала, что мы стали наследными принцами, мне сделалось дурно. В ту пору я носила третьего ребенка. Родители вызывали нас в Испанию. По обычаю кандидатуры наследников утверждали кортесы. Архиепископ Безансонский, Франсуа де Буслейден, без совета которого мой муж с детства не мог сделать и шага, убедил его, что негоже отправляться в Испанию, не навестив старых друзей Фландрии — французов. Филибер де Вейре, еще один страстный защитник французских интересов, предложил обручить моего крошку Карла с Клаудией, единственной дочерью Людовика XII. Чтобы заполучить испанскую корону, Филипп должен был принести в жертву бывшим союзникам нашего сына. От одной мысли об этой циничной сделке меня пробирала дрожь. Когда муж, словно волк в овечьей шкуре, явился выпрашивать мою подпись на брачном договоре, я пришла в бешенство. Я разорвала пергамент сверху донизу и продолжала рвать его на куски, пока Филипп не схватил меня за волосы и не ударил о стену. Белый от ярости, он силой усадил меня в кресло у камина.
— Как ты смеешь? Что ты о себе возомнила? — орал Филипп, не в силах подобрать слова, чтобы задеть меня побольнее.
— Я никогда тебе не перечила, Филипп. Отпусти меня.
Он отступил. Попросил прощения. Упал к моим ногам и обнял колени. Боже упаси, он никогда не посмел бы обидеть мать своих детей. Он сам не знал, что за бес в него вселился, но это лишь от тревоги за судьбу его милой Фландрии. Возможно, для Испании хорошие отношения с Францией не слишком важны, но для Фландрии это вопрос жизни и смерти.
— Твоя новая родина очень маленькая, Хуана, перед Испанией она беззащитна. Ты боишься, что французы станут дурно обращаться с нашим Карлом, что эта помолвка его унизит. Это не так, поверь мне. Наш сын будет править империей, о которой мы и мечтать не можем: Испанией, Францией, Фландрией, Германией, Сицилией, Неаполем.
— Когда-нибудь, возможно, Филипп, но не сейчас. Людовик Валуа правит слишком мало. Подожди, пока станет ясно, что лучше для Испании, пока кортесы признают нас. До тех пор я ничего не подпишу, и не проси.
Я не подписала договор. После нашей ссоры Филипп одумался. Судя по всему, моя храбрость пришлась мужу по душе, и он ненадолго стал нежным и страстным, как в первые дни нашей любви.
Чего боялся Филипп? И слепой заметил бы, что больше всего на свете его страшит встреча с моими родителями. Вдали от них он мог сколько угодно притворяться мудрым политиком. Обмануть других и себя ничего не стоит. Достаточно повторять: «я поступлю так», «я сделаю это». Мы приходим в восторг от смелости собственных намерений. Сколько раз наедине с собой я вела яростные воображаемые споры с Филиппом. Но стоило мужу появиться в дверях, и стройное здание моих доводов рушилось, словно карточный домик. Моя храбрость мигом улетучивалась, а мысли превращались в топкое болото. Я начинала дрожать как осиновый лист, опасаясь, что с губ сорвется неосторожное слово. Я боялась, что Филипп меня разлюбит, хотя прекрасно понимала, что эти страхи мне только вредят. Филипп влюбился в храбрую и решительную девушку, и новая робкая Хуана, Хуана-мямля едва ли могла прийтись ему по душе. Я все понимала, но ничего не могла поделать. Страх был сильнее доводов разума. Я часто слышала, что любовь слепа и безумна, но даже не предполагала, что из-за нее мы зачастую перестаем быть самими собой, лишаясь разума и воли. Потеря любви подобна смерти, и мы любой ценой цепляемся за жизнь. Нет на свете греха страшнее, чем предательство любви, это все равно что бросить бедняка умирать от голода. Страсть к Филиппу превратила меня в жалкую нищенку. Мне приходилось выпрашивать любовь с протянутой рукой. Разум подсказывал мне, что у моего избранника немало пороков и слабостей: взять хотя бы то, как он трусливо откладывал встречу с моими родными. Филипп давно бредил титулом принца Астурийского, строил планы, продумывал наперед будущее наших детей и каждый день находил новые предлоги, чтобы никуда не ехать. А главным предлогом стала я. Моя беременность становилась все тяжелее. Живот мой вырос до немыслимых размеров. Путешествовать в таком состоянии было тяжело и опасно. Тем не менее родители настойчиво призывали нас к себе, стремительно теряя терпение. Они слали мне письмо за письмом, убеждая повлиять на мужа, и собирались отправить за нами армаду. Мать настаивала, чтобы мы путешествовали морем. По суше нам пришлось бы пересечь Францию.