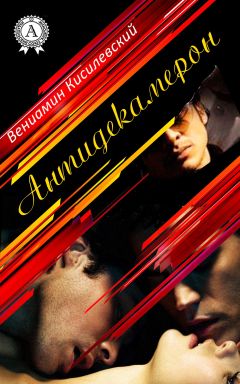Антидекамерон - Кисилевский Вениамин Ефимович
– Да мне, – отвечает, – многие по душе, у нас композиторы хорошие, один мальчик вообще очень талантливый, замечательные песни пишет. Только не раскручен еще как следует. Мелодии на слуху, а автора мало кто знает. Вот, к примеру, эту песню, которую везде поют, он сочинил. Слышали такую? – и тихонько напевает.
Обрадовался я, что в самое яблочко попал. Песню эту в самом деле часто передают, мне самому нравится. И что удачней всего, даже слова запомнил, у меня на это память хорошая. И начал ей подпевать, как бы дуэт у нас получился. Изольда похвально на меня посмотрела, улыбнулась:
– А у вас, Анатолий, голос хороший. И слух тоже, молодец.
Я, как положено, засмущался, потом сказал ей, что так многие говорят. Некоторые считают даже, что я выступать мог бы, советуют к специалисту какому-нибудь обратиться, чтобы послушал меня. Только где ж его, специалиста, взять, да и кто на меня время тратить будет. А я, вообще-то, под гитару пою, под гитару у меня лучше получается.
– Жаль, – говорит, – что гитары у нас нет, я бы с удовольствием послушала.
Попалась рыбка на крючок. Если, говорю ей, вам в самом деле интересно, то гитара у меня тут рядом, могу принести. Что ей оставалось? – сама ведь напросилась, я не настаивал. Уж не знаю, хотела или не хотела, но сказала:
– Принесите, любопытно.
А гитара моя в коридоре за тумбочкой была схоронена, дожидалась меня. Прихватил ее – и назад. Возвращаюсь, а Изольда по-другому сидит: с ногами в углу дивана. Приготовилась, значит, к моему представлению, позицию заняла. Перебрал я струны – и запел. Про очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Опасался, что от волнения голос просядет, – ничего подобного, хорошо зазвучал, душевно, и цыганщина эта самая хорошо поучалась, с нужной такой надрывностью для эффекта. Что волновался – скрывать не стану. Интересное дело – приходилось ведь мне перед целым залом петь, где столько народу, а тут одна бабёнка, пусть даже из Москвы она и с Жириновским знается. Потому что многое от нее для меня сейчас зависело. Не оттого только, что в инопланетяне мне захотелось и самому, если повезет, в том ресторане побывать, где Шевчук с Киркоровым задрались. Хотя, правду сказать, кто ж от такого откажется. А потому еще, что вдруг захотелось мне, чтобы похвалила она меня, удивилась, какой я талантливый. Пою, на нее поглядываю – и вижу, что нравится ей мое исполнение. И в самом деле удивляется она. Не так, чтобы лишь приятное мне сделать, из вежливости – действительно нравится ей.
Закончил я про то, как увидел вас я не в добрый час, – смотрю на нее молча. А она мне хлопает, молодчиной называет. Просит, чтобы еще спел. Ну, я ей уже не цыганскую, чтобы не думала, будто я только на это и способен. Про отраду в высоком терему. Так вывожу, что и мне понравилось. Кто сам поет, знает, что голос – штуковина непостижимая, капризная, и неизвестно, когда и от чего он зависит, он сам по себе живет. Иногда прячется куда-то, а то вдруг так разовьется, не нарадуешься. Вот в тот вечер очень хорошо мне пелось, прямо редкостно. Про отраду в тереме так выдал, что перед Кобзоном не стыдно было бы. А она опять похлопала и самородком меня назвала.
– Еще, – спрашиваю, – хотите, ежели не устали?
Ответила она, что хочет, только попросила свет выключить, потому что в глаза ей режет. Ну, я выключил, мне в темноте петь даже сподручней, романтичней получается. В комнате после этого не совсем темно стало, а такой полумрак залег – двор у нас, видели же, хорошо освещается. Дал по струнам – и третью ей, лирическую, как в степи глухой замерзал ямщик. Она потом и говорит мне, что у меня большие способности, учиться обязательно нужно. У меня, сказала, и внешность очень выигрышная, для зрительского успеха не последнее дело. Я горячее железо кую: у кого тут учиться, кому я тут со своей внешностью нужен, позаботиться некому. И тут она бальзам на меня проливает: я, говорит, позабочусь, у меня, говорит, есть такие возможности. Приедете ко мне в Москву, я вас с кем надо познакомлю, похлопочу. А я от слов ее этих совсем разомлел, поверилось, что все у меня, о чем мечтал, сбудется. Тот самый счастливый случай.
– Не знаю, – от души сказал, – как мне вас благодарить.
Лицо ее плохо различаю, но угадываю, что улыбается оно. И голос улыбается:
– Надеюсь, придумаете, как отблагодарить.
А чего тут придумывать? Непонятно разве, чего ей от меня хочется? И я, как на духу говорю, пусть кто хочет обижается, раз было это, не заставлял себя, не в угоду ей делал. Никакой уже лошадью, особенно в сумерках, не казалась мне, за это время, что мы с ней вместе провели, большое расположение к ней почувствовал. Даже, можно сказать, очень большое. И понимал я, что всякие штучки-дрючки здесь не нужны, решительно нужно действовать. И слов лишних не тратить. Опять же не засомневался я, что из-за меня она здесь ночевать осталась. Сказал только:
– Я к вам, Изольда, со всей, какая есть у меня, благодарностью.
Гитару на стол положил, подхватил Изольду на руки и на кровать понес. Такая у меня была к ней благодарность, что пушинкой мне она показалась. Халат-кимоно с нее в момент скинул, а она и не сопротивлялась, только, хоть и темновато было, стеснительной оказалась, все отворачивалась от меня. Ну, думаю, тебе же хуже. Начал, как получалось, пристраиваться к ней, а она уже вся готова. Застонала, шепчет мне:
– Толечка, миленький мой…
И тут, в этот самый момент, я всё постиг. Такое постиг, что вмиг обалдел. Оторвался от нее, только и сумел сказать:
– Ты что? Ты что это?…
А она все одно твердит: «Толечка, миленький, Толечка, миленький»…
Короче, не она это твердила, а он твердил. Мужиком оказалась. Оказался. Меня чуть не вывернуло. Хорошо, не разделся я, брюки только застегнуть. Соскочил с кровати – и дёру. А она, он то есть, мне вслед канючит:
– Толечка, Толечка, миленький…
Не помню, как за дверью очутился. Весь мокрый, как из реки меня вытащили. Домой мчался, будто гнались за мной. И весь день потом в пансионате не показывался, чтобы точно увериться, что не встречусь я с ней. Анна Кузьминична мне звонит, спрашивает, куда подевался, а я ей даже причину сказать не могу – после, говорю ей, все расскажу, сейчас не могу. Про Изольду у нее спросил – рано утром, сказала, умоталась, и не видела ее. А я все равно прячусь – вдруг вернется. Чего боялся – сам не понимал, что этот Изольда сделать мне может? А вот поди ж ты. Анна Кузьминична уже потом, когда рассказал ей, помирала со смеху, вот как сейчас, вы же сами видели. А чего тут смешного, гнусь одна. До сих пор, как вспомню этого Изольду, мураши по коже…
– Так тебе и надо, – хмыкнула Кузьминична, – меньше кобелил бы, артист. И нечего тут разукрашивать, что загипнотизировала она тебя своими байками. В Москву ему захотелось, посмотрите на него!
– Ну, знаете! – возмутился Толик. – Я что, сам к ней напрашивался? Не просил, чтобы вы меня одного с ней, с ним не оставляли? Кто меня подсовывал ей, Галямов, что ли?
Было заметно, что диспут этот вели они не впервые, удивило лишь Дегтярева, что Кузьминична отчего-то заставила Толика говорить сейчас об этом, угрожала, что сама всем расскажет, если тот заупрямится. Даже если всколыхнуло что-то в ней, захмелевшей, произнесенное им, Дегтяревым, имя Изольда. И счел нужным, чтобы положить конец начавшейся ненужной перепалке, вмешаться:
– Ничего смешного действительно нет. Кстати сказать, это уже просто эпидемия какая-то. Впору национальным проектом сделать нещадную борьбу с гомиками, иначе, боюсь, добром это не кончится.
Поддержал его Корытко, сказал, что по данным некоторых социологов число сторонников однополой любви до десяти процентов доходит:
– Представляете, каждый десятый мужик смотрит на мужика, как на женщину. Как бы Содом и Гоморра, куда катимся?
Неожиданно заспорил Кручинин. Обращался почему-то не к Корытко, а к Дегтяреву. Сказал, что десять процентов – это явный перебор, вряд ли и три-четыре наберется, но у каждого человека есть право выбора, и никто никому не должен указывать, как и с кем ему жить. Да, он, Кручинин, не сторонник таких симпатий, но принимать это надо как данность, никуда не деться, и они, врачи, должны лучше других это разуметь. Не возвращаться же к сталинским временам, когда гомиков сажали в тюрьмы. Мы, в конце концов, просвещенные европейцы, а не кондовые азиаты.