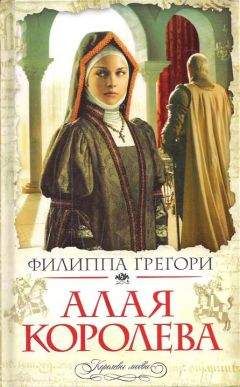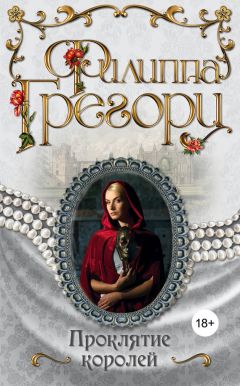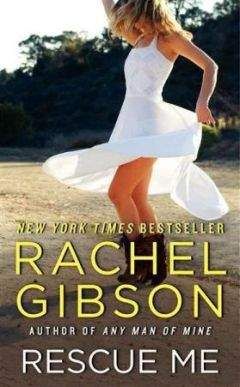Филиппа Грегори - Другая королева
Мне придется судить моего друга и брата-пэра Томаса Говарда, герцога Норфолка, и придется выслушивать всякую грязь. Я не верю свидетельствам, полученным на дыбе от кричащих от боли узников. С каких пор пытка прекратилась во что-то само собой разумеющееся, что происходит в тюрьмах с молчаливого согласия судьи? Мы не во Франции, где пытки узаконены, мы не испанцы, с их затейливой жесткостью: мы не жжем людей на кострах. Мы англичане, и подобная дикость незаконна, кроме как по особой просьбе монарха в самые тяжелые времена. Так обстоит дело в Англии.
По крайней мере, так должно быть.
По крайне мере, так было.
Но, поскольку у королевы в советниках люди, которые не поморщатся от некоторого варварства, мне теперь предоставляют самые разнообразные свидетельства, и я их должен просмотреть. Те, кого я считал друзьями многие годы, могут быть признаны изменниками и отправлены на плаху, и путь их выстилают признания их сломленных слуг. Таково новое правосудие в Англии, где из людей выжимают истории, наваливая им камни на живот, а судьям заранее говорят, какой приговор вынести. Мы теперь ломаем дух пажей, чтобы сломать шеи их хозяевам.
Что ж, я не знаю. Не знаю. Не об этом мы молились, когда мечтали о нашей Елизавете. Это не похоже на тот покой и примирение, которого мы думали дождаться от новой принцессы.
Я бормочу все это про себя, пока медленно двигаюсь на собственном корабле к ступеням Вестминстера, чтобы сойти с качающегося на темной воде судна на сырые ступени и пройти по террасе дворца в зал; никогда на душе у меня не было тоскливее, чем сейчас, когда великий план Сесила по избавлению Англии от папистов, испанцев и шотландской королевы достиг мощного финала. Состояние мое потеряно, я должен собственной жене, от моего душевного мира остались жалкие ошметки, моя жена шпионит за мной, женщина, которую я люблю, опорочила себя ложью, предала моего сеньора и королеву, другая любимая когда-то королева меня разорила. Я поднимаю голову и вхожу в зал, как должно Талботу, как лорд среди равных, как вошел бы мой отец, а до него – его отец, все мы, весь наш род, и думаю: господи милосердный, никто из них не мог чувствовать себя как я – таким неуверенным, таким предельно неуверенным и потерянным.
У меня самое высокое сиденье, а по обе стороны от меня сидят другие лорды, которые будут разбирать это злосчастное дело вместе со мной, да прости их Бог за то, что они здесь. Сесил хорошо отобрал членов суда, с умыслом. Здесь Гастингс, закоренелый враг шотландской королевы; Уэнтуорт, Роберт Дадли и его брат Эмброуз, все они были друзьями Норфолка в хорошие времена, ни один теперь не рискнет ради него добрым именем, никто не посмеет защитить шотландскую королеву. Все мы, шептавшиеся против Сесила три года назад, жмемся теперь друг к другу, как напуганные мальчишки, и делаем все, что он скажет.
Сам Сесил тоже здесь – Бёрли, не забыть бы, что его надо называть так. Последнее, свежайшее произведение королевы, барон Бёрли в ярком новом одеянии, с белым и пушистым горностаевым воротником.
Ниже нас, лордов, расположились королевские судьи, а перед нами, на задрапированном помосте, встанет Говард, которому предстоит ответить на обвинения. За ним места для знати, а потом – стоячие места для тысяч дворян и граждан, которые прибыли в Лондон, чтобы насладиться невиданным зрелищем: кузена королевы открыто судят за измену и восстание. Королевская семья снова обернулась сама против себя. Мы, оказывается, никуда не продвинулись.
В восемь, когда еще темно и холодно, у дверей начинается шевеление, и входит Томас Говард. Он бросает на меня быстрый взгляд, и я думаю, что три прошедших года были к нам обоим суровы. Мое лицо, я знаю, покрывают тревожные морщины из-за моей заботы о королеве и крушения моего мира, а он выглядит серым и усталым. Он бледен жуткой тюремной бледностью, которая появляется у тех, чья кожа ежедневно была открыта всем ветрам и кто потом внезапно оказался в заключении. Загар лежит на его лице, как грязь, здоровый цвет под ним сошел. Это тауэрская бледность, он видел ее на лице отца и деда. Он поднимается на помост, и я пораженно вижу, что его осанка, всегда такая гордая, такая высокомерная, пропала, он сутулится. Он стоит, словно на него давят ложные обвинения.
Когда королевский пристав читает обвинение, герцог поднимает голову, оглядывается, как усталый ястреб оглядывает конюшни – вечно настороже, вечно готов к опасности, но блестящей гордости Говардов в его глазах больше нет. Его заточили в той же комнате, где сидел его дед, обвиненный в измене. Он видит из окна лужайку, на которой его отца казнили за преступления против короны. Говарды всегда были самой большой опасностью для самих себя. Томасу должно казаться, что род его проклят. Думаю, если бы его кузина, королева, могла увидеть его сейчас, она простила бы его из одной лишь жалости. Возможно, ему давали дурные советы, он мог ошибаться, но он уже наказан. Его силы на исходе.
Его спрашивают, что он ответит на обвинение, но вместо того, чтобы сказать «виновен» или «невиновен», он просит суд о совете поверенного, который помог бы ему ответить на обвинение. Мне не нужно смотреть на Сесила, чтобы убедиться в отказе; старший судья Кейтлин нас всех опережает, вскакивает на ноги, как марионетка, объясняя, что в суде за измену поверенного пригласить не позволяется. Говард может только ответить, изменник он или нет. И смягчение вины тоже невозможно; его судят за государственную измену, если он ответит, что виновен, это значит, что он хочет умереть.
Томас Говард смотрит на меня, как на старого друга, который, как он надеется, обойдется с ним по справедливости.
– Мне слишком поздно сообщили, чтобы я подготовился к ответу по такому серьезному вопросу. У меня не было и четырнадцати часов, считая ночь. Я едва ли готов. Мне поздно сообщили, и у меня не было книг: ни собрания законов, ни даже их краткого перечня. Меня привели на бой, не дав оружия.
Я смотрю себе на руки и перекладываю бумаги. Не можем же мы отправить человека на плаху, не дав ему времени подготовиться к защите? Мы ведь позволим ему позвать поверенного?
– Я защищаю здесь свою жизнь, земли и добро, своих детей и потомство, и то, что я ценю превыше всего, – мою честность, – горячо говорит он мне. – Я воздержусь от разговоров о чести. Я не обучен, позвольте мне то, что разрешает закон, дайте мне с кем-нибудь посоветоваться.
Я уже хочу повелеть судьям удалиться и вынести решение по его обращению. Мы были его друзьями, мы не можем отказать в такой разумной просьбе. И тут мне подсовывают под руку переданную через стол записку от Сесила.
1. Если ему предоставить поверенного, будут обнародованы все подробности того, что сулила ему шотландская королева. Уверяю вас, ее письма к нему не из тех, что вы захотите прочесть перед этим судом. Они выставляют ее непристойной шлюхой.