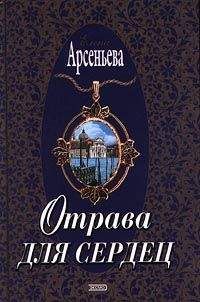Елена Арсеньева - Возлюбленная Казановы
Засим гороподобный рыцарь пожелал откушать (и в самом деле, ведь после достопамятного обеда прошло не менее двух часов, столь богатых событиями, что невозможно было не проголодаться) и проследовал в столовую. Однако Елизавета отказалась составить ему компанию, желая как можно дольше не разочаровываться в этом новом, неожиданном и столь привлекательном образе Шумилова. Она поспешно сменила грязное, мокрое, изорванное платье, кое-как переплела косы и побежала к Елизару Ильичу.
* * *Это зрелище едва не заставило ее зарыдать в голос. Но сейчас надо было не плакать, а спасать жертву графского самодурства. Пришлось скрепиться.
В компании с почти наголо остриженной, а потому утратившей всю свою строптивость Агафьей Елизавета принялась отмывать изувеченное, избитое, бесчувственное тело управляющего. От Агафьи толку было немного: она была еще не в себе после утреннего происшествия, все время рыдала и годилась лишь на то, чтобы подать-принести. Благодаря своему возрасту она хотя бы не жеманилась, не взвизгивала, не пялилась на обнаженное мужское тело, что неминуемо проделывали бы молодые горничные. Сама же Елизавета вообще не воспринимала Гребешкова как мужчину (в том-то и состояла полная, трагическая безнадежность его любви, что он был близок ее душе, ничуть не трогая сердца: скорее брат, чем даже друг); и если руки ее дрожали, кровь стучала в висках, то повинно здесь было не томление плоти, а жалость к полуживому Елизару Ильичу и негодование на свою беспомощность.
Ах, если бы вместо хнычущей, неуклюжей Агафьи здесь каким-то чудом оказалась Татьяна! Цыганка Татьяна с ее ласковыми руками, которые исцеляли уже самим прикосновением; с ее внимательными глазами, которые врачевали уже самим взглядом; с ее тихим голосом, который проникал в самую душу и утешал, и вселял уверенность, что не так все плохо в этом мире, как кажется, а если и плохо, то непременно прояснится к лучшему; с ее цепкостью и упорством, с какими она удерживала безнадежно больного человека на самом краю смертной бездны, постепенно, шаг за шагом, оттаскивала от нее, возвращая к жизни!..
Елизавета чуть не плакала от мысли, что давно бы могла повидаться с Татьяною, когда б не то заточение, в котором ее держали. Ведь Василь в каком-то дне плавания вниз по течению. Но сейчас, когда жизнь Елизара Ильича висела на волоске, даже это ничтожное расстояние казалось бесконечностью. Теперь она вправе послать гонца, но он может не успеть привезти Татьяну! Елизавета ругательски ругала себя за то, что, дважды встретившись с Вайдою, дважды упустила возможность хоть что-нибудь узнать о Татьяне, которая была ей ближе и дороже родной матери… Да она ведь и не знала матери своей.
Но полно! Да живет ли по-прежнему цыганка там, где жила? Не ушла ли и она в тот мир призраков, куда уже переселились почти все близкие Елизавете люди?
И все это время, пока Елизавета непрестанно меняла набухавшие кровью примочки на теле Гребешкова и осторожно снимала присохшие клочья рубашки, душа ее, словно почтовый голубь, летала над сизою волжской волною в поисках того единственного в мире желтого песчаного бережка, которого касался своим огромным крылом бескрайний лес, осеняя тот покосившийся, приветливый, уютный домишко, где таинственно перешептывались пучки сухих, душистых трав, развешанные по стенам, где дышал такой покой!.. Она до того отчетливо представила, как входит в этот дом и целует милое, смуглое лицо, крест-накрест перечеркнутое двумя розовыми шрамами, что в первую минуту даже не удивилась, когда две маленькие, сухие руки вдруг отняли у нее чистую тряпицу, а такой знакомый, такой родной голос тихо проговорил:
– Дай-ка мне, доченька. Это уж моя забота. А ты лучше отдохни.
* * *Самое удивительное, что Татьяна давно была неподалеку! Еще когда Вайде не удалось унести той мартовской ночью потерявшую сознание Елизавету, он послал человека к Татьяне с известием, что «княжна Измайлова» вновь объявилась. То есть Елизавета еще тогда встретилась бы с этой самой родной в мире душою, если бы не помешал Гребешков, уверенный, что спасает ей жизнь. Господи, как подумаешь, сколько путаницы, сколько недоразумений в судьбах человеческих, как причудливо и нелепо сплетены они!.. Ведь не спугни тогда управляющий Вайду и Соловья-разбойника, возможно, они и впрямь унесли бы Елизавету, но она не помогала бы им выручать Данилу-парикмахера, и их дерзкая попытка могла бы провалиться; не ввергнули бы тогда самого Гребешкова в бездну страданий; не разъярили бы графа Строилова до безумия, что повлекло новые невзгоды для Елизаветы… Но что об этом говорить! Теперь, описав сию причудливую кривую, все вновь воротилось на круги своя: появилась Татьяна, и в сердце Елизаветы вспыхнула надежда, что ее заточение в этом доме пришло к концу.
Она ни на миг не сомневалась, что Татьяна поддержит ее и поможет бежать отсюда куда глаза глядят, хоть в кривой домишко под Василем, хоть в берлогу лесную, хоть в самое логово разбойничье, лишь бы подальше от новых надругательств строиловских, кои не замедлят статься, лишь только Валерьян соберется с силами. И мало сказать, что она была потрясена, когда Татьяна только нахмурилась и головою покачала, выслушав сей горячечный план, твердо сказала: «Нет».
* * *Рыдания Елизаветы разнеслись по всему дому, и Потап Спиридоныч, не дошед до четвертой перемены блюд, прервал свое пиршество и прибежал как был, с салфеткою на шее, не сомневаясь, что Валерьян преждевременно очухался и вновь принялся за свое злобесие. Это было бы непереносимо для его самолюбия силача и кулачного бойца. Поэтому у Шумилова тотчас же отлегло от сердца, когда он узнал, что граф по-прежнему лежит в лежку и встанет еще очень не скоро. Тогда Потап Спиридоныч решил, что графиня оплакивает свершившуюся кончину своего самоотверженного управляющего. Однако тот оказался вполне жив, хоть и простерт на постели бледный, с закрытыми глазами, столь ловко и тщательно забинтованный с головы до ног, что более напоминал тряпичную куклу, нежели человека. Тут Шумилову оставалось только развести руками, ибо третьей причины для слез милой графинюшки он вообразить никак не мог! Однако, услыхав, каким тоном разговаривает с нею бог весть откуда взявшаяся черная и страшная особа с физиономией, исполосованной уродливыми шрамами, он решительно содрал с шеи салфетку и закатал рукава для расправы с «этой разбойницей». Но, наткнувшись на прямой, спокойный взор черных очей, вдруг остолбенел и почему-то никак не мог ни с места двинуться, ни рукой-ногой шевельнуть.
Потап Спиридоныч слыл тугодумом. Но того времени, пока он пребывал в некоем подобии столбняка, ему как раз хватило, чтобы сообразить: сия чернавка – это бывшая нянюшка графини (так Елизавета отрекомендовала Татьяну, дабы избежать вопросов; она давно усвоила, что излишние подробности возбуждают ненужное любопытство и только вредят делу), любимая ею более всех на свете и крепко любящая ее, да почему-то нипочем не желающая выполнить самой малой ее прихоти – увезти из Любавина!..