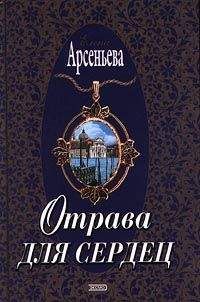Елена Арсеньева - Возлюбленная Казановы
«Вот еще одна судьба, которую она изломала», – сурово вынесла Елизавета приговор себе, будто кому-то постороннему.
Она думала свою печальную и тревожную думу, а обед между тем тащился к концу. Он был столь изобилен, что, когда подали какое-то жирное пирожное, одолеть его хватило сил только у Потапа Спиридоныча. Остальные клевали носами. Один Валерьян был бодр, несмотря на выпитое. На губах его блуждала такая ехидная улыбка, что Елизавета поняла: забава, которую он обещал, не замедлит свершиться. И будет она остра. Весьма остра!
Гости уже начали было вставать, как вдруг двери распахнулись, и почтенный лакей Ануфрий в белых перчатках внес огромную чашу, над которой курился пар. Когда ее водрузили на стол, стало видно, что в ней гуляет синий летучий пламень, в котором было нечто адское, хоть пахнул он не серою, а гвоздикой, корицею и ромом.
– Жженка! – взревел Шумилов.
Князь Завадский, как человек более светский, поправил, поджав губы:
– Пунш, друг мой. Это пунш!
Ануфрий ловко наполнил большой ложкою какие-то особенные хрустальные чаши и подал каждому гостю. А Елизавета, уставясь в скатерть неподвижными глазами, вспомнила, как там, в пылающих римских катакомбах, она испуганно воскликнула: «Вы хотите сказать, что ром загорелся? Да ведь он жидкий!», а граф де Сейгаль, грязный и закопченный, будто подручный дьявола, пожалел, что она пуншу не пробовала никогда и теперь уж и не…
Этот Казанова, или как там его, думал, что они не выйдут из треклятого подземелья. Но ошибся! И пунш – вот он. Неужто Елизавета уже так стара и многоопытна, что на каждое событие ее настоящего то и дело отзывается эхо из прошлого: насмешливо, или тоскливо, или с погребальным колокольным звоном? Что происходит, почему эти тени клубятся вокруг, заглядывают в глаза, шепчут, подают знаки? И какие знаки, о чем?..
Елизавета очнулась. Гости уже вылакали последние капли пуншу, и только она одна сидела перед полной чашею. Потянулась к ней и вдруг наткнулась на пристальный взгляд Валерьяна. Рука дрогнула, чаша опрокинулась, и глаза Валерьяна полыхнули такой яростью, что Елизавете стало страшно.
– Эх, матушка, экая ты косорукая! – взвыл светский князь Завадский. – Сколько добра пролила!
Елизавета с изумлением уставилась на него. За подобную наглость он мог бы схлопотать пощечину, даром что князь! И не замедлила бы эту пощечину отвесить, но тут Валерьян взвился из-за стола, как подстегнутый.
– Забава! – выкрикнул он. – А теперь обещанная забава! Все во двор выходите, кататься поедем на новой лошадушке. На резвой! Зверь, а не лошадь! – И он закатился пронзительным смехом.
Елизавета огляделась. Она думала, что объевшиеся и опившиеся гости мечтают об одном: соснуть часок-другой, ан нет! Все с восторгом ринулись во двор, словно пунш влил в них новые, дьявольские силы, так что через миг Елизавета осталась одна и с облегчением вздохнула.
Все! Ее служба закончилась! Перекрестясь, она метнулась к двери, торопясь уйти к себе, да не тут-то было: на пороге вырос Валерьян.
Без разговоров выволок ее на крыльцо, подхватил и зашвырнул в тележку, где уже теснились хмельные, развеселые гости. Зашвырнул с такой силой, что Елизавета угодила прямиком на жирные колени Потапа Спиридоныча, который восторженно загоготал и стиснул ее изо всей мочи.
– Не бойся, голубчик граф! – взревел он. – Я женку твою не обижу, крепко держать буду. Гони!
Только сейчас Елизавета заметила, что тележка стоит как-то диковинно. Она была вплотную придвинута к воротам конюшни, приотворенным лишь слегка, так, что не было видно упряжи. Из конюшни доносилось истошное, запаленное ржание коней. Они били копытами в стенки стойла, точно чем-то перепуганные до полусмерти. И этот страх вдруг передался Елизавете: обессилил ее до дрожи, до испарины в похолодевших ладонях. Она рванулась, да где там! Шумилов явно наслаждался своей ролью.
Валерьян заглянул в конюшню и выскочил довольный.
– Пускай! – махнул рукою.
Ворота распахнулись. Молча порскнули прочь конюхи, сверкая пятками. И все наконец увидели лошадушку. Резвую лошадушку, которой хвалился Валерьян.
Это был медведь.
* * *В том, что все подстроено нарочно для нее, Елизавета не сомневалась. И она не могла оторвать глаз от зверя.
Такого крупного, могучего самца с блестящей бурой шерстью не часто увидишь. Ядреный лесной мохнач, уж и борода у него полезла! Был он как громадная глыба, с огромной пудовой головою, с колышущимися от жира округлыми боками и широкой, как матрас, спиной. Жиру в паху у него было запасено так много, что лапы раскорячивались. Казалось удивительным, что в начале мая медведь в лесу смог нагулять столько жиру. Видимо, его кто-то нарочно откармливал… да и опаивал, судя по всему, ибо такого сонного и равнодушного медведя и вообразить невозможно. Он стоял в оглоблях, вяло опустив голову, словно и впрямь лошадь, но отнюдь не резвая, а смертельно усталая, так низко пригнув морду к траве, будто намеревался ее пощипать.
Гости, которые такого смирного медведя ничуть не испугались, разразились гоготом. Не смеялась только Елизавета. Дрожа, она уцепилась за рукав Потапа Спиридоныча и не могла разжать пальцы.
Казалось, этот оглушительный, издевательский хохот что-то пробудил в медведе. Он поднял голову и медленно заворотил ее так, что седокам сделались видны его широколобая скуластая морда, косенькие глазки и желтые кончики клыков.
Смех враз стих. Подпившие гуляки почуяли, с каким огнем играют. Общее настроение выразил князь Завадский:
– Нехороша твоя лошадь, Валерьян Демьяныч! Лучше уж пешком ходить, чем на такой ездить.
– А чем же она нехороша? – спросил Строилов, опасно поблескивая глазами, чего князь, пожалуй, не заметил, ибо поддался неосторожному желанию съязвить:
– Больно тиха! Ни рыси, ни галопа не знает, а ведь ты говорил: на резвой прокатишь!
– На резвой? Прокачу, ей-ей, прокачу! – вскричал Валерьян и одним прыжком тотчас оказался на козлах. Схватил кнут и, закрутив над головою, с потягом обрушил на медвежью спину…
Елизавете почудилось, что какая-то неведомая сила вдруг приподняла тележку и швырнула ее в сторону. Два нижегородских дворянчика, сидевшие по краям, вывалились на траву. Шумилов, Завадский и она сама повалились на дно, но сесть как следует, тем более сойти, оказалось уже невозможно, потому что эта сила была неостановима и необорима.
О нет, это лишь казалось, что медведь бездеятельный, сонный и не понимает, что с ним делают! Он глухо взревел, напружинился и ринулся вперед с яростью обезумевшей тройки лошадей.
Мгновенно промелькнули и исчезли дворовые постройки, медведь вырвался на проселочную дорогу, но понесся не туда, где покато спускались к Волге деревенские порядки, а свернул вправо – к лесу.