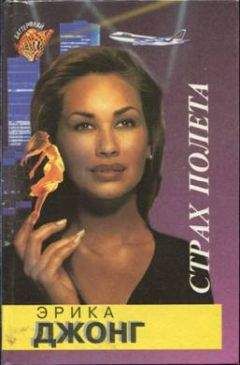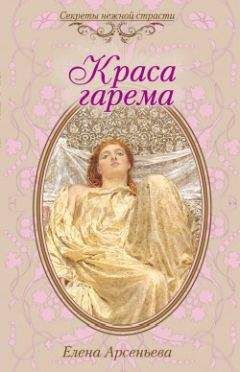Елена Арсеньева - Год длиною в жизнь
– Да, мне поручено написать материал об Олеге Вознесенском, вернее, о том, как прошли похороны.
– Ну что ж, думаю, вы тут узнали кое-что интересное для себя, – сказал Лавров. – И если поедете на кладбище, еще многое узнаете. Надеюсь, вы сможете все это описать точно и ярко.
«Бурильщик» покосился на Георгия и тотчас отвел глаза, но взгляд его был весьма выразителен.
«Пиши, пиши, практикант! – читалось в нем. – Написать ты можешь все, что угодно, но напечатают ли твою писанину – большой вопрос!»
Георгий мысленно вздохнул. Мало того что Полозков бдит, над ним ведь есть еще редактор, а над редактором – учреждение под названием Главлит. Вот уж мимо кого ни птица не пролетит, ни рыба не проплывет, ни зверь не прорыскнет! Придиры там сидят – не дай Господь. В каждой строчке видят идеологический просчет. Не далее как вчера Георгий своими ушами слышал, как завотделом культуры и литературы объяснял местной поэтессе, почему ее стихотворение напечатано с купюрами:
– У вас там фраза была: «Все меньше в жизни дружбы, все больше пустоты». Помните?
– Конечно, помню! – обиженно простонала поэтесса. – Почему ее убрали?
– Цензор Главлита велел, – вздохнул завотделом. – Сказал, что нельзя такую строку оставлять, ведь могут подумать, что в нашей стране, в жизни наших людей «все меньше дружбы, все больше пустоты». Ну и все такое…
– Да кто же может подумать? Кого они все боятся, в вашем Главлите? – взывала отчаянно поэтесса. Но взывала напрасно: завотделом только плечами пожимал да руками разводил, а еще возводил очи гор?е, словно намекая: там, наверху, виднее…
Конечно, цензоры не пропустят и намека на целинную трагедию. Но это их дело. А дело Георгия – описать все, что он узнал сегодня. И что узнает на кладбище.
– Товарищи, кто еще едет? – громогласно спросил распорядитель похорон.
Георгий обнаружил, что двор почти опустел: гроб занесли в катафалк, знакомые Вознесенского, собиравшиеся проводить его до конца земного пути, сели в два автобуса, соседи, явившиеся только к выносу, возвращались в свои подъезды. Автобусы уже фырчали моторами, ужасно чадя. Рита сморщила нос, смешно замахала рукой перед лицом, разгоняя бензиновую гарь.
«Можно подумать, у них там, в заграницах, автобусы не чадят! – вдруг обиделся Георгий. – Да во всех газетах пишут о том, как вредные промышленные выбросы портят тамошнюю природу».
Распорядитель похорон забрался в автобус и махнул шоферу:
– Вроде все. Отправляемся!
– Погодите! – спохватился Георгий. – Я тоже еду!
Он кинулся к дверце, вскочил на подножку, обернулся: Лавров и Рита смотрели ему вслед. «Серый костюм» торопливо вышагивал к серой же «Волге», доселе стоявшей у крайнего подъезда.
«Я забыл проститься с Лавровым и с ней! – ужаснулся Георгий. – Что она обо мне, невеже, увальне энском, подумает? Вот деревня, скажет!»
И такая тоска его взяла, что он чуть не кинулся вон из автобуса, плюнув на задание редакции. Но тут дверцы сомкнулись прямо перед его носом, как будто для водителя успешная практика студента Георгия Аксакова имела значение куда большее, чем для самого вышеназванного студента. И автобус тронулся.
Георгий успел увидеть, как Рита, пожав плечами, повернулась к Лаврову, взяла его под руку и вместе с ним пошла со двора.
«Что она обо мне подумает? – мысленно повторил он со странным, злобным чувством, которого прежде не испытывал. – Да она завтра даже не вспомнит обо мне! Да она забудет обо мне уже через минуту! Самое большее – через пять минут!»
Георгий опустил глаза, чтобы не видеть никого. Он ненавидел сейчас Лаврова, которого Рита взяла под руку. Почему? Называлось это чувство ревностью, но Георгий очень удивился бы, если бы узнал, что он, оказывается, ревнует незнакомую женщину к почти незнакомому человеку. Нет, ну в самом деле, вот глупость, а?
1940 год
«Для Татьяны Ле Буа, 12, рю де ля Мадлен, Париж
Мадам, не удивляйтесь тому, что это письмо без подписи, и не считайте его пошлой анонимкой. Вы не знаете меня, мое имя ничего Вам не скажет, а в случае, если оно попадет в чужие руки, могут выйти неприятности и Вам, и мне. Поэтому я останусь для Вас неизвестным. И все же прошу дочитать письмо до конца и поверить каждому моему слову. Единственной рекомендацией мне может быть то, что Ваш адрес я получил от одного человека. Не знаю, кто Вы ему, он не успел мне объяснить, но, уж коли он хранил Ваш адрес, это кое о чем говорит… Имени я его не знаю, знаю только, что он русский. Я и сам русский, и то, что мы с ним встретились, принадлежит к числу тех неисповедимых случайностей, на которые столь щедра война. Ведь она, подобно урагану, сметает все на своем пути, и жалкие песчинки – судьбы человеческие – в ее вихре смешиваются, на мгновение касаются друг друга и вновь разлетаются. Так пересеклись на миг и наши судьбы.
Нетрудно догадаться, что русский во Франции – значит, эмигрант. Нас много здесь. Моя жена (она бежала из Петрограда зимой 18-го года по льду Финского залива), наши общие друзья (уходили из Крыма на последних кораблях, пережили все ужасы «Галлиполийского сидения»)… Многие русские эмигранты давно были мобилизованы в армию – меня и моего друга не взяли по состоянию здоровья. Мы уехали из Парижа 20 мая 1940 года, опасаясь, что немцы, как только возьмут Париж, сразу вывезут русских в концентрационный лагерь. Мы отправились с семьями в Шабри, где загодя сговорились снять дом на лето. Надеялись пересидеть самое суматошное время начала оккупации, а вышло, что угодили как кур в ощип.
Мы выехали в половине пятого утра на Орлеанское шоссе. Сперва все шло отлично, но потом жандармы [4] начали заставлять сворачивать на объездные дороги, хотя шоссе ранним утром казалось почти пустым. Но наконец мы поняли почему: перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, грузовиков, набитых чумазыми от пыли, изможденными людьми. А еще шли пешком десятки, сотни людей, ехали коляски, повозки с инвалидами… Одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез тридцать девочек лет десяти-двенадцати, в белых платьях и белых вуалях, с венчиками на голове. Оказалось, они из бельгийского города Монс. Немцы уж входили в город, а кюре успел всех детей прямо из церкви, где проходило первое причастие, увезти. Паника была страшная… Мы сперва громко удивлялись, показывали друг другу машины – эта из Голландии, а эта из Бельгии, но потом замолкли. Зрелище было неожиданное, пугающее. Ведь столько людей уже несколько дней (так близко от Парижа!) шли, брели, ехали, а мы ничего не знали.