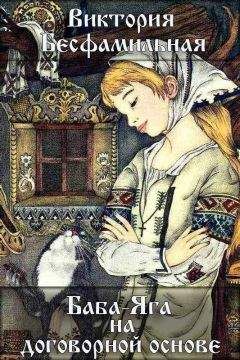Виктория Хольт - Король замка
«Мне не с кем поговорить. Вернувшись из Карефура, я долго сидела в цветнике и все думала, думала… Женевьева, доченька! В памяти оживали события прошлого. Я словно смотрела спектакль, в котором каждая сцена приближает кульминацию. Мне вспоминались приступы ярости, так свойственные Женевьеве, ее неумеренный смех. Этому смеху вторил другой смех — из прошлого. Моя мать и моя дочь. Они даже внешне схожи. Чем больше я старалась представить мамино лицо, тем больше оно походило на лицо Женевьевы. Теперь я должна наблюдать за Женевьевой, как отец наблюдал за мной. Любой самый мелкий проступок, который раньше я расценивала как детскую шалость, приобретал новое значение. Семя греха перешло через меня в следующее поколение. Мой отец, собиравшийся стать монахом, не сумел подавить страсть к жене, даже зная, что она сумасшедшая. В результате родилась я. Я тоже, в свою очередь, родила ребенка. Теперь же я трепещу не только за бедную Женевьеву, но и за неродившееся дитя».
«Вчера я не пошла в Карефур. Не смогла, В свое оправдание я сказала, что у меня болит зуб. Нуну носится со мной. Она дала мне несколько капель опиума, и я заснула. Проснувшись, я почувствовала себя бодрее, но вскоре мои мысли вновь захватила неотступная тревога. Ребенок, о котором я мечтала, каким он родится? Что будет с Женевьевой? Сегодня утром она, как обычно, первым делом прибежала ко мне. Я слышала, как они с Нуну разговаривали за дверью. Нуну сказала: «Маме не здоровится. У нее болит зуб, и ей нужен отдых». «Но я всегда захожу к ней,» — возразила моя дочь. «Не сегодня, дорогая. Дай маме поспать». Но Женевьева разбушевалась. Она затопала ногами, а когда Нуну попыталась остановить ее, ударила бедняжку по руке. Я содрогалась, лежа в постели. Лапа прав. Эти внезапные приступы ярости — нечто большее, чем детские капризы. Нуну не может с ними справиться. Я тоже не могу. Я крикнула, чтобы Женевьева вошла. Она чуть не плакала от злости, губы ее были упрямо поджаты. Она бросилась ко мне. Ее объятия были слишком горячими, слишком бурными. «Нуну пытается разлучить нас. Я ей этого не позволю. Я убью ее». Ее слова звучали неистово, сумасбродно. Я всегда говорила, что это не то, что она хотела сказать. У нее просто такие манеры. Просто такие манеры! Манеры Онорины. Папа заметил в ней проклятое семя. Теперь я верила ему и была охвачена ужасом».
«Меня вызвали в Карефур. «Он все время ждет вашего прихода, — говорили слуги. — Смотрит на дверь и зовет вашу мать. Возможно, он путает вас с ней». Я села у его постели. Папа смотрел на меня невыразительными тусклыми глазами и называл то Франсуазой, то Онориной. Бормотал что-то о грехе и возмездии, но не так связно, как прежде. Я решила, что он умирает. Его лихорадило, и я склонилась над ним, пытаясь разобрать его слова. «Ребенок? — услышала я. — Она ждет ребенка?» Я подумала, он говорит обо мне, но потом поняла, что мыслями он в прошлом. «Ребенок… Онорина ждет ребенка. Как это могло случиться? Возмездие господне! Я все знал и продолжал ходить к ней, и это кара… до третьего и четвертого колена. Семя, проклятое семя будет жить вечно». «Папа, — увещевала я, — это было очень давно. Онорина умерла, а у меня все хорошо. Со мной все в порядке». Его безумные, без всякого выражения глаза смотрели на меня. Он шептал: «Мне сообщили, что она ждет ребенка. Я хорошо помню тот день. «Вы будете отцом», — говорили они и улыбались, не зная, какой ужас охватил мою душу. Вот она, божья кара. Грех не умрет со мной, он будет жить в третьем и четвертом колене. Ночью я пошел к ней в комнату. Постоял над постелью. Онорина спала. У меня в руках была подушка. Прижми я мягкую подушку к ее лицу, и все было бы кончено — и с ней, и с ребенком. Но она была красива… черные волосы, по-детски округлый овал лица, и я смалодушничал. Склонился над ней, обнял ее и понял, что никогда не смогу убить мою Онорину.» «Ты только зря расстраиваешь себя, папа, — сказала я. — Прошлого не вернешь. Я здесь… Со мной все хорошо, поверь». Он не слушал, а я думала о Женевьеве и неродившемся ребенке».
«Ночью я не могла заснуть. Не переставала думать о папином горе и о Женевьеве. О ее необузданности, которая пугает Нуну. Теперь мне известно, почему. Нуну помнит мою мать, и у них с папой одинаковые опасения. Я видела, как Нуну смотрит на мою дочь. Я задремала, и мне приснился страшный сон, будто я должна убить кого-то в комнате с зарешеченным окном. Там сидела моя мать… но с лицом Женевьевы, а на руках она держала ребенка… еще неродившегося ребенка. Я заставила ее лечь, встала с подушкой над постелью и тут проснулась с криками: «Нет, нет!» Меня била дрожь. После я не могла спать из страха увидеть продолжение кошмара. Я приняла несколько капель настойки Нуну и забылась в глубоком сне без сновидений. Утром я проснулась с ясной головой. Если я жду сына, он продолжит род де ла Талей, в замок войдет семя греха и, как призрак, будет бродить по нему столетиями. И эту беду принесу им я? Нет! О Женевьеве позаботится Нуну. Няня все знает и последит за ней. Она постарается, чтобы Женевьева никогда не вышла замуж. Возможно, убедит ее уйти в монастырь, как папа хотел убедить меня. А ребенок… Если это мальчик… Такой шаг требует смелости, которой не достало папе. Убей он мою мать, и я никогда бы не родилась и не знала страданий… никогда. Именно так будет с ребенком».
«Прошлой ночью случилась странная вещь. Я проснулась от кошмара, но опиум из зеленого ребристого флакона снова усыпил меня. Как объяснила Нуну, у флакона фигурная форма для того, чтобы даже в темноте сразу распознать бутылочку с ядом. Яд? Но он приносит сладкий сон и облегчение! Как легко принять в два, в три раза больше, чем Нуну дает мне от зубной боли… и нет ни страхов, ни забот. Ребенок никогда не узнает страданий. Я избавлю его от рождения на свет, от слежки, которая неизбежно начнется при первых признаках болезни. Я тронула флакон и подумала: «Мне нельзя смалодушничать, как папа». Я представила себя такой же старой, как он… Вот я лежу на смертном одре, упрекая себя за несчастия, которые принесла своим детям. Но потом я испугалась, приняла несколько капель и заснула, а утром сказала себе: «Это не выход».
«Снова пришла ночь, а вместе с нею страх. Мне не спится. Все думаю о папе и маме, о комнате с зарешеченным окном и о ребенке, которого ношу под сердцем. Нуну, пожалуйста, позаботься о Женевьеве. Я оставляю ее на тебя. Не знаю, достанет ли мне смелости, которой не хватило папе. Почему он не сделал то, что хотел? Так было бы лучше для многих. Женевьева бы никогда не родилась… Нуну избежала бы многих волнений. Я тоже никогда не появилась бы на свет. Отец был прав… С кровати видно флакон. Зеленый ребристый флакон. Я положу этот дневник вместе с другими тетрадями в буфет, и Нуну найдет его. Она любит читать о тех днях, когда я была маленькой, и говорит, что мои книжечки возвращают их вновь. Она объяснит всем, почему… Не знаю, смогу ли я. Не знаю, правильно ли это… Теперь я постараюсь заснуть, но если не удастся… Утром я напишу, что эти слова нашептала мне ночь, а при дневном свете все кажется иным. Но папе не хватило смелости… не знаю, достаточно ли ее у меня. Не знаю…»