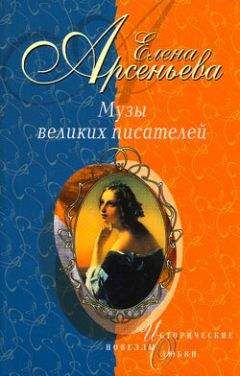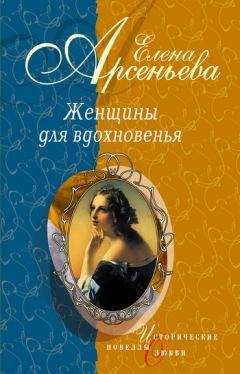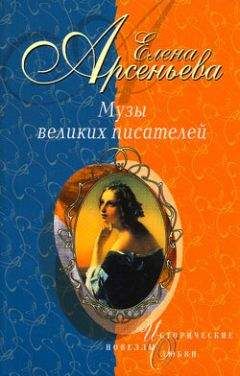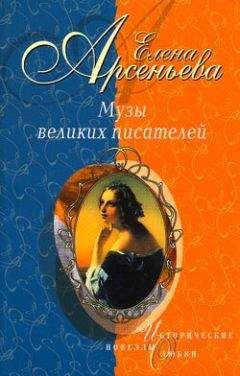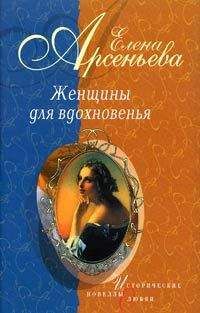Елена Арсеньева - Банга-Любанга (Любовь Белозерская – Михаил Булгаков)
Катаев в принципе был убежден, что место жены писателя – на кухне… но не на его творческой кухне. Любу, которая отнюдь не желала варить «наваристые борщи» для голодных и полуголодных гениев и молчать в тряпочку, а сама обожала читать стихи, норовила вмешаться в каждый спор и обо всем имела свое мнение, Катаев не больно-то жаловал! Ну и Булгакова, который подпал под ее влияние, тоже попинал:
«В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидели его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом… Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некоей Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами „Двенадцати стульев“ „княгиней Белорусско-Балтийской“.
Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси».
Почему Напси?! В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова ни о какой Напси ни словом не обмолвилась…
Впрочем, господь с ней, с Напси. Это не суть важно. Не исключено, что Катаев тут малость приврал – так, ради красного словца. Да, кстати, – сам-то он был еще более провинциален, поскольку родом из Одессы. Киев, родина Булгакова, – все-таки столица…
Для богемного и безалаберного Катаева было дичью то, что для Булгакова казалось нормой: «Восстановить норму – квартиру, одежду, книги». Однако великая ценность для Булгакова новой подруги была не только в том, что она разделяла его пристрастие к утонченному и надежному домашнему уюту, не только в ее заботливости: Люба всегда была весела, смешлива и легка на подъем, разделяла его страстную любовь к розыгрышам. Вообще тогда такая была жизнь – смешенье трагического с комическим. Казалось, в этой стране, где «кто был никем, тот стал всем», люди постоянно друг друга разыгрывают.
Михаил Афанасьевич работал в отделе фельетонов газеты «Гудок», известной тем, что через нее прошли очень многие литературные знаменитости того времени: Катаев, Олеша, Евгений Петров (младший брат Катаева) и другие. Он писал под псевдонимами Крахмальная Манишка, ЭМ, Эмма Б., М. Олл-Райт и т. п., а сюжеты брал, конечно, из писем рабкоров. Ну как не написать фельетон вот о таком случае: как-то на строительстве понадобилась для забивки свай капровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда – на удивление всем – в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Ну, строго говоря, она и впрямь была капровая баба…
Как-то раз в Мисхоре, где Булгаковы жили на курорте, кто-то из соседей по столику спросил писателя, что такое – женщина бальзаковского возраста. Он стал объяснять по роману: тридцатилетняя женщина выбирает себе возлюбленного намного моложе себя, и для наглядности привел пример – вот, скажем, если бы Книппер-Чехова увлеклась комсомольцем… Только он произнес последнее слово, как какая-то особа, побледнев, крикнула: «Товарищи! Вы слышите, как он издевается над комсомолом. Ему хочется унизить комсомольцев! Мы не потерпим такого надругательства!» Насилу тогда Булгаков с Любой «отбились» от политических обвинений.
Потом, после Мисхора, они отдыхали под Москвой, на даче семьи Понсовых. Здесь-то собрались люди все «одной масти» – если и не «бывшие», то явно к ним тяготевшие. Ну и развлекались даже без намека на «новые социалистические отношения».
По вечерам все сходились в гостиной. Уютно под абажуром горела керосиновая лампа – электричества-то не было. Здесь центром служил рояль, за который садилась хорошая музыкантша Женя Понсова или композитор Николай Иванович Сизов, снимавший в селе комнату.
Однажды гость Петя Васильев показал, как в цирке говорят, «силовой акт». Он лег ничком на тахту и пригласил компанию, собравшуюся в гостиной, лечь сверху, что все с радостью и исполнили. Образовалась куча мала. Петя подождал немного, напрягся и, упираясь руками в диван, поднялся, сбросил всех на пол.
Булгаков сказал:
– Подумаешь, как трудно!
Лег на диван тоже ничком, и все весело навалились на него. Через несколько секунд он повернул бледное лицо (Люба клялась, что никогда не могла забыть его выражения, враз несчастного и смешного!) и произнес слабым голосом:
– Слезайте с меня, и как можно скорей!
Все ссыпались с него горошком и попадали на пол от смеха.
Пусть «силовой акт» не удался, но в шарадах Михаил Афанасьевич был асом! Эта забава, вот уж точно перешедшая из «прошлой жизни», и веселила, и вселяла в сердца тоску по былому… Но уж больно смешон был Булгаков!
Вот он с белой мочалкой на голове, изображающей седую шевелюру, дирижирует невидимым оркестром. (Он вообще любил дирижировать. Иногда брал в руку карандаш и воспроизводил движения дирижера – эта профессия ему необыкновенно импонировала, даже больше – влекла его.) Здесь он изображал прославленного дирижера Большого театра по фамилии Сук (это был первый слог шарады).
Затем тут же в гостиной двое изображали игру в теннис, ведя счет и произнося термины, как и положено меж профессионалами, по-английски:
– Аут, ин, сетин…
«Ин» – это был следующий слог.
Второе слово – «сын». Изображалось возвращение блудного сына. А все вместе… С террасы в гостиную сконфуженно вступал, жмурясь от света, лохматый большой пес Буян: сукин сын.
В другой шараде Булгаков изображал даму в полосатеньком капоте хозяйки дома, Лидии Митрофановны, и был необыкновенно забавен, когда по окончании представления деловито выбрасывал свой бюст: диванные подушки…
Однажды затеялся спиритический сеанс. Особую остроту забаве придавало то, что в атеистической стране, которой сделалась теперь Советская Россия, это было почти запрещенной игрой.
Уселись за круглый стол, положили руки на столешницу, образовав цепь, затем избрали ведущего для общения с духом – художника Сережу Топленинова. Свет потушили. Наступила темнота и тишина, среди которой раздался торжественный и слегка загробный голос Сережи:
– Дух, если ты здесь, проявись как-нибудь.
Мгновение… Стол задрожал и начал рваться из-под рук. Сережа кое-как его угомонил, и опять наступила тишина.
– Пусть какой-нибудь предмет пролетит по комнате, если ты здесь, – сказал медиум.
И через комнату тотчас же из угла пролетела, шурша, книга.
Атмосфера накалялась. Через минуту раздался чей-то крик:
– Дайте свет! Он гладил меня по голове! Свет!