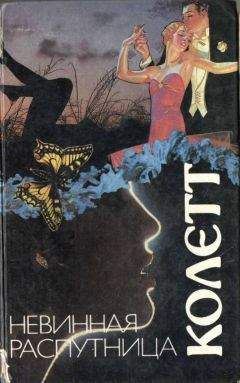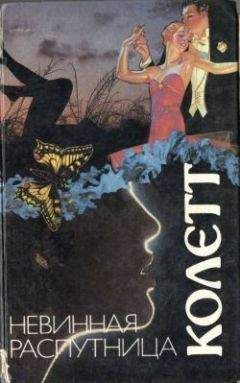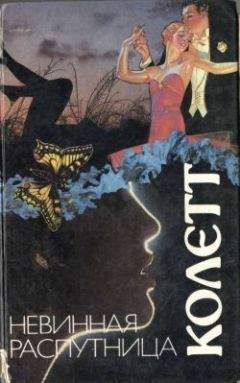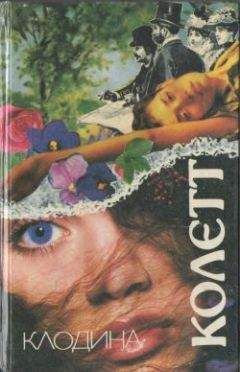Сидони-Габриель Колетт - Невинная распутница
– Да?
Он снимает шляпу, надевает её вновь и ковыряет каблуком потрескавшуюся от жары землю…
– Какой же ты глупый. Антуан! Вечно тебе хочется поучать меня. А мне уже всё объяснила Мама.
– Тётушка… тётушка объяснила тебе…
– Однажды во время я урока прочла: «И могилы их были обесчещены». Тогда я спросила Маму: «Что значит обесчестить могилу?» Мама сказала: «Вскрыть её без разрешения…» Ну вот, с трупом то же самое… обесчестить его – значит, вскрыть без разрешения. Съел? Слушай, звонит колокол к обеду! Идём!
За столом Антуан вытирает лоб салфеткой, пьёт большими стаканами воду…
– Тебе так жарко, мой бедный волчонок? – спрашивает Мама.
– Да, тётя, мы много бегали, а потом…
– Что ты там рассказываешь? – кричит с другого конца стола эта чертовка Минна. – И вовсе мы не бегали, а просто смотрели, как копается в огороде папаша Корн!
Дядя Поль пожимает плечами.
– Парень перегрелся на солнце! Мой мальчик, сделай милость, начни опять пить отвар горечавки: от него сходят прыщи.
– Никак не могу эту дыню переварить! – вздыхает дядя Поль, развалившись в плетёном кресле.
– У вас слабый желудок, – выносит заключение папаша Люзо. – Я выпиваю по стаканчику комбье до и после обеда, поэтому могу есть столько дыни и красной фасоли, сколько захочу.
Папаша Люзо, держась неестественно прямо в охотничьем костюме цвета хаки, курит трубку, прикрыв глаза рыжеватыми бровями. Дядя Поль питает слабость к этому прочному обломку прежней жизни и соглашается раз в неделю выносить торжественно-тупые сентенции старого охотника. Папаша Люзо дымит, с шумом выдыхая воздух, от него пахнет табаком и освежёванным зайцем, и Минне он не нравится.
– Похож на драгуна! – говорит она про себя. – Все говорят, что славный… но он скрывает свои делишки! Эти глаза! Наверняка крадёт маленьких детей, чтобы скормить их свиньям.
Вечер давит своей неподвижностью. После ужина, чтобы не видеть ламп, окружённых москитами и коричневыми ночными бабочками с мефистофельскими усиками, похожих на маленьких сфинксов с птичьими глазами, дядя Поль со своим гостем и Минна с Антуаном уходят на террасу.
От огня в кухонном очаге и от лампы в столовой в сад устремляются два острых пучка оранжевого света. Цикады кричат, как днём, и дом, вобравший солнечные лучи всеми порами своих серых камней, останется горячим до полуночи.
Минна и Антуан сидят, свесив ноги, на низкой стене террасы и не говорят ни слова. Антуан пытается разглядеть в темноте глаза Минны; но вокруг непроницаемая ночь… Ему жарко, неуютно в собственной шкуре, и он терпеливо переносит эти слишком привычные ощущения.
Минна смотрит, не шевелясь, прямо перед собой. Она вслушивается в шаги Ночи, легко ступающей по песчаным дорожкам и порождающей устрашающие силуэты во тьме. И Минна вздрагивает от вожделения. Эти тяжко-спокойные часы переполняют её нетерпением; вглядываясь в безмятежную красоту сада, она взывает к возлюбленному Племени, которое повелевает её грёзами…
Изнуряющая ночь, когда руки жаждут прикоснуться к холодному камню! На укреплениях она дышит лихорадочным возбуждением и убийством, её прорезает пронзительный посвист… Минна резко поворачивается к своему кузену:
– Свистни, Антуан!
– Как это?
– Свистни во всю силу, так громко, как можешь… Громче! Ещё громче! Хватит! Ты не умеешь!
Сжав руки, она хрустит всеми пальцами и зевает прямо в небо, словно кошка.
– Который час? Этот папаша Люзо ещё не собирается уходить?
– Нет, отчего же! Ещё не поздно. Ты хочешь спать? Презрительная гримаса: я – спать?!
– Этот старик меня раздражает!
– Тебя все раздражают! Он славный человек, немножко болтун…
Она пожимает плечами и произносит прямо перед собой в темноту:
– У тебя все славные! Ты загляни ему в глаза! Уж я-то знаю!
– Ни фига ты не знаешь.
– Пожалуйста, будь повежливее! Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Папаша Люзо поседел в преступлениях.
– Поседел в преступлениях! Минна, если бы он тебя услышал…
– Если бы он меня услышал, то не посмел бы больше прийти сюда! Он завлекает девочек в свою охотничью хижину, а потом, надругавшись, душит их! Ты помнишь, как исчезла малышка Кене?
– О!
– Вот именно.
Антуан чувствует, как всё плывёт у него перед глазами, и негодующе взрывается, благоразумно переходя на шёпот:
– Но это же неправда! Ты сама знаешь, её родители сказали, что она уехала в Париж вместе с…
– С коммивояжёром! Знаю, знаю! Папаша Люзо заплатил им, чтобы они молчали. Эти люди ради денег способны на всё.
Раздавленный её логикой, Антуан на минуту замолкает, но затем его возмущённый здравый смысл берёт верх. В своём негодовании он осмеливается даже схватить в крепкие ладони хрупкие запястья Минны:
– Послушай, Минна, ты говоришь что-то чудовищное! Этого нельзя делать, если нет доказательств! Кто тебе сказал?
Серебристое облачко вокруг невидимого лица Минны колышется в такт её смеху:
– А ты думаешь, я такая глупая, что всё тебе расскажу?
Вырвав свои запястья, она вновь застывает в царственной неподвижности:
– Мне многое известно, сударь! Но вы не вызываете у меня доверия!
У чувствительного неловкого мальчика подступают к глазам слёзы, и он говорит нарочито высокомерным тоном:
– Не вызываю доверия? Разве я когда-нибудь ябедничал? Да хоть сегодня утром, когда папаша Корн пришёл жаловаться, что потоптали его грядки… я что, натрепался?
– Ну, знаешь! Этого бы ещё недоставало! Иначе я бы с тобой вообще не разговаривала.
– Так что же? – молит Антуан.
– О чём это ты?
– Ты скажешь мне?
Он отказался от всех попыток выказать пренебрежение, он клонится всем своим длинным телом к маленькой равнодушной королеве, которая таит столько секретов в своей головке, осенённой серебристо-светлыми волосами…
– Посмотрим, – отвечает она.
– Можно войти, Антуан? – слышится за дверями голос Минны.
Антуан, всполошившись, как испуганная старая дева, мечется по комнате с криком: «Нет, нет!» – и судорожно ищет свой галстук. В дверь нетерпеливо скребутся, и Минна распахивает её настежь:
– Почему же «нет, нет»? Потому что рубашка у тебя расстёгнута? Ах, мой бедный мальчик, неужели ты думаешь, что меня это смущает?
Минна, в голубом полотняном платье, с белой лентой в гладких волосах, встаёт перед кузеном, который нервно завязывает найденный наконец галстук. Она смотрит ему в лицо своими бездонными чёрными глазами, окаймлёнными дрожащей тонкой бахромой блестящих ресниц. Антуан, не в силах превозмочь восхищение, отворачивается. В глазах этих суровая чистота, которую можно увидеть только у младенцев – очень серьёзных, потому что они ещё не умеют говорить. В тёмной их глади пляшут отражения, и Антуан, увидев в них на мгновение себя, смущается, и рубашка становится ему тяжела, как рыцарю панцирь…