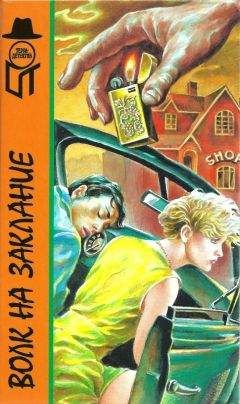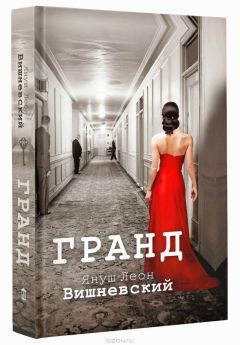Вики Баум - Гранд-отель
И в самом деле, при последних словах генеральный директор вздрогнул. То, что в такую минуту ему напомнили о мамусике, было уже слишком. Только этого не хватало. Однако чувство чего-то запретного, грешного, непозволительного и порочного уже поднималось горячей волной в его крови со слегка повышенным — по причине избыточного питания и начинающегося склероза — артериальным давлением. Прайсинг сел на стул и глубоко вздохнул. Стул тоже охнул. Войдя в контакт с грузной особой генерального директора, паркет жалобно скрипел, мебель кряхтела, двери с треском хлопали. Прайсинг поднял руки и в пылком мужественном порыве положил их на мягкий изгиб бедер Флеммхен. Восхищенные и жаждущие наслаждения ладони вместо ожидаемого ощущения чего-то мягкого встретили тело крепкое, упругое, как надутая резина. Он усадил Флеммхен к себе на колени, те сразу начали подрагивать, но Прайсинг приказал коленям не трястись.
— Какие у всех вас мускулы! Как у мальчишек, — смущенно пробормотал он.
— У кого это — у всех?
— У тебя и… у других девушек, которых я знаю, — ответил Прайсинг. На самом деле он в эту минуту вспомнил, как выглядели его дочери в купальных костюмах. Флеммхен понемногу начинала зябнуть, и близость теплого тела Прайсинга была ей приятна. Она отказалась от сухого «вы» и стала вообще избегать прямого обращения.
— Смотри-ка, он знает девушек! — сказала она и взъерошила Прайсингу волосы, которые лишь вчера так замечательно подстриг и сбрызнул одеколоном столичный парикмахер. «Ну наконец-то, теперь все пойдет нормально», — подумала она.
— Конечно знаю. А ты что думала? Я не какой-нибудь слюнтяй. Могу потягаться с разными симпатичными молодыми людьми, которые танцуют в Желтом павильоне. Смотри, какой я сильный! — И Прайсинг согнул руку, демонстрируя бицепсы. Тут он почувствовал, что к нему вернулось счастливое, хмельное и хвастливое настроение, с которым он вчера вышел из конференц-зала после успешно проведенных переговоров, и сломя голову ринулся в это потрясающее приключение. — Пощупай, какой я крепкий, пощупай! — сказал он, придвинув руку к Флеммхен. Она из вежливости потрогала бицепс. Действительно, мышцы у Прайсинга были удивительно крепкие и объемистые, что было незаметно под серым сукном костюма.
— О! Как сталь, — похвалила она бицепс. Затем слезла с неудобных колен Прайсинга и отошла на несколько шагов, заложила руки за голову и взглянула на генерального директора, слегка прикрыв глаза. Под мышками у нее были такие же светлые завитки, как непослушная прядь надо лбом. Прайсинг вдруг ощутил, что сердце у него болезненно сжалось, и еле слышно прошептал:
— Ты будешь со мной ласкова?
— Ну да, конечно, — вежливо, с готовностью ответила Флеммхен. В следующее мгновение Прайсинг ринулся к ней, словно разорвав какие-то узы, сокрушив стену, сбежав из тюрьмы. Он вырвался из самого себя, этот корректный, совестливый, осмотрительный генеральный директор, взлетел, точно ракета, и приземлился в объятиях Флеммхен. «Ну наконец», — подумала она, ничуть не удивившись этому порыву, страху и пылкости, которые вдруг охватили Прайсинга. Она обняла его за шею, и он почувствовал, что ее руки сомкнулись, как две теплые волны, в которых он рад был утонуть, а в глазах Прайсинга вдруг завертелись водоворотом телеграфные бланки, бесчисленные телеграфные бланки, потом померкли, стали темно-багровыми, темно-синими и исчезли наконец в тот миг, когда он ощутил на накрашенных губах Флеммхен запах фиалок.
Поздний вечер. Танцевальная музыка из Желтого павильона лишь угадывалась; ее вибрация пронизывала все стены в Гранд-отеле. Час с лишним назад портье Зенф уступил рабочее место ночному портье. Доктор Оттерншлаг поднялся к себе в номер и теперь лежал с закрытыми глазами и открытым ртом на кровати как пьяная мумия. Маленький чемоданчик доктора стоял, как всегда, собранный, готовый к последнему вояжу, но и в этот вечер Оттерншлаг опять не принял окончательного решения, которое было необходимо для выполнения последней мелкой формальности. В 68-м номере настойчиво стучала пишущая машинка, там поселился представитель американской кинематографической компании, и на кровати, помнившей Грузинскую и ночь ее любви, теперь были горой навалены целлулоидные пленки, которые американец просматривал, прежде чем печатать ответы на деловые письма. Звоночки пишущей машинки были слышны и в 70-м номере, где сидел в ванне Отто Крингеляйн. Он наблюдал за фокусами, которые вытворяла пузырящаяся таблетка ароматической соли на белой эмали ванны. Крингеляйну было грустно, и поэтому он тихонько, робко напевал, стараясь приободрить себя. Сидя в ванне, Крингеляйн пел, как поет заблудившийся в лесу ребенок. День у него прошел плохо, принес одни разочарования, объяснение с Прайсингом отняло страшно много сил: после этого разговора Крингеляйн сник и обессилел. Но что было хуже всего, Гайгерн, этот мотор, этот источник энергии, этот горячий, согревающий решительный человек, двигатель со скоростью 120 км в час, куда-то пропал. Сидя в смягчающей боли теплой воде, Крингеляйн чувствовал себя так, словно уже дочитал до конца последнюю страницу своей жизни и ничего, совсем ничего там уже не осталось…
Вверх по лестнице поднимался курьер номер 18, Карл Ниспе, он то останавливался, то шел дальше, то останавливался, то шел. Под глазами у него были темные, как грим, тени. Он часто сглатывал слюну, под ложечкой у него сосало от нервного перевозбуждения, которым сплошь и рядом страдают служащие гостиниц. Карл Ниспе приходил на службу из жалкого закоулка в убогом заднем дворе, проводил день в холле отеля среди колонн и ковров, возле итальянского фонтана и после окончания рабочего дня возвращался в темное пролетарское бытие. Семнадцатилетний парень, еще не созревший, он обзавелся девушкой, так называемой невестой, и не мог удовлетворить требований, которые она к нему предъявляла, потому что получал мизерное жалованье. И вот он нашел в зимнем саду портсигар из чистого золота. Четыре дня портсигар пролежал в надежном тайнике, фактически это означало, что Карл Ниспе его украл. Теперь же он решился, переборол себя и решился расстаться с портсигаром, вернуть вещь владельцу, сказав, что нашел. И вот с бьющимся сердцем Карл Ниспе подошел к дверям 69-го номера, снял кепи, отчего его лицо вдруг из официального и деловитого стало обыкновенным человеческим лицом, и, простояв возле двери минут семь, наконец постучал в такт громкому стуку своего сердца.
Карл Ниспе видел, что барон фон Гайгерн четверть часа назад взял у портье свой ключ и поднялся в номер, однако за дверью никто не откликнулся на стук. Курьер немного подождал, потом, набравшись смелости, открыл наружную дверь и постучал во внутреннюю. Между дверями на крючке для одежды был аккуратно повешен смокинг барона, оставленный здесь для лакея, который должен был его отутюжить. Курьер постучал снова. Никакого ответа. Подождал, опять постучал. Ответа не было. Он нажал на ручку внутренней двери — дверь оказалась незапертой, в комнате никого не было. Карл Ниспе, кое-что понимавший в людях, ухмыльнулся и тихо присвистнул, потом положил нагревшийся в руке портсигар на стол. В комнате был беспорядок, горел свет и пахло совсем не по-гостиничному — здесь стоял запах мяты, лаванды, сигарет и сирени, дышалось легко и приятно. Несколько веточек оранжерейной белой сирени стояло в вазе. На письменном столе Карл Ниспе увидел фотографию овчарки. В центре комнаты дремала пара лакированных ботинок барона, у них были серьезные и самодовольные физиономии. Карл Ниспе с усмешкой принюхался к воздуху в номере и преисполнился почтения к атмосфере элегантного холостяцкого быта, потом о чем-то задумался и вдруг с сильно забившимся сердцем схватил со стола портсигар, сунул к себе под рубашку и бесшумно вышел из номера.