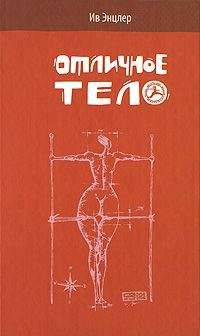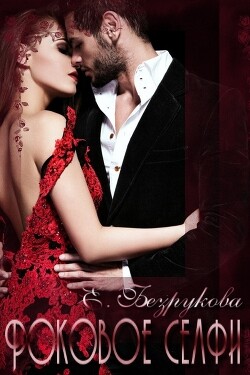Яд вожделения - Арсеньева Елена
Алена сидела, сжавшись под тяжестью обнимавшей ручищи, и думала, что предпочла бы, чтобы Мишка перегрыз ей горло, чем на глазах Аржанова… нет, это будет невозможно перенести! Если это существо накинется на нее, она будет кричать, чтобы в нее стреляли, чтобы лучше убили ее. Бросив еще один взгляд на закаменелые черты Аржанова, она вдруг поняла, что он исполнит эту просьбу. Да, он лучше убьет и Мишку, и ее заодно, но не отдаст на позор. Потом, пожалуй, и сам застрелится или по горлу чиркнет ножичком… с тем же мертвенно-спокойным выражением лица, с тем же оледенелым в глубине глаз отчаянием…
«Он любит меня! – подумала вдруг. – Ведь и правда – любит!» И восторг, охвативший ее при этой мысли, заслонил на миг все страхи, отгородил Алену от боли и тоски, словно одел ее сверкающей броней. И она поняла, что умереть сейчас, всей душой, всем сердцем ощущая любовь, изливающуюся из глаз Егора, – это совсем не то, что умирать в яме под виселицей, в ночи одиночества и горя.
Стало легче дышать.
– Ну что ты меня так стиснул? – спросила она сердито, поворачиваясь к Мишке и поводя замлевшими плечами. – Чай, не каменная, больно!
Растерянность мелькнула в тусклых светлых глазах, хватка ослабла, и Алена поняла, что Мишка испугался ее тона.
– Ну ладно, ладно, – сказала она примирительно. – Дай-ка лучше руку.
Он послушно уступил ее усилиям, снял руку с Аленина плеча, подал ей. Почему-то ее не оставляло ощущение, что рядом сидит дитя неразумное. И боялась его, как мужика, и в то же время жалела, как ребенка.
«Hадо его развлекать, зубы заговаривать, – подумала Алена. – Время тянуть до Ленькина прихода!» Она ведь знала множество сказок, баек, рассказок, которых на сутки хватило бы! Беда, что сил вовсе не было даже лясы точить, а потому Алена легонько похлопала в ладоши и устало забормотала что пришло в голову:
– Ладушки-ладушки, где были? У бабушки!..
Почему ладушки? Откуда они вдруг прилетели?.. Бог весть! Может быть, из тех давних-предавних, вовсе позабытых лет, когда Аленушка сидела на матушкиных коленях, а та брала ее ручонки, хлопала ими и журчала-припевала: «Ладушки-ладушки! Где были? У бабушки! Что ели? Кашку! Что пили? Бражку!»
– Что ели? Кашку! Что пили? Бражку! – бормотала Алена, быстро моргая, чтобы прогнать слезы, вдруг подступившие к глазам.
Кто была ее бедная, безвестная матушка? Неведомо. Кто ее отец? Неведомо и сие. Ох, люто распорядилась ею судьба, лютенько! Побродяжка без роду, без племени, сидит в клетке, забавляя чудище лесное, и одно только еще держит ее на свете, одно не дает угаснуть сердцу: огонь, горящий в глазах человека, который глядит на нее сквозь решетку. Нет… не только. Еще мучительное трепетание жизни в глубинах ее существа!
«Вот кабы умереть сейчас! – со сладкой тоской, как о блаженстве несбыточном, подумала Алена. – Вот было бы счастье!»
И снова забормотала голосом, прерывающимся от скопившихся в горле слез:
– Kашка масленька! Бражка сладенька! Бабушка добренька!..
Мишка смотрел на нее не отрываясь, даже не моргая, вдруг лицо его сморщилось в странном усилии, а ладони медленно хлопнули одна о другую, и даже когда Алена закончила:
– Попили, поели… На головку сели… Фр-р! Улетели! – Он продолжал хлопать в ладоши, и напряжение уходило с его лица, сменяясь подобием улыбки.
– Пустите! Пустите меня!
Истошный крик разорвал оцепенение. Алена тихо ахнула. Мишка вскинул голову и снова обхватил девушку ручищей, но в этом его движении было такое стремление защитить ее, что у Алены дрогнуло сердце.
Егор резко обернулся – и двинулся навстречу двум стражникам, тащившим… Ульяну.
Вокруг вилась Фокля, причитая:
– Матушка ты наша, благодетельница! За что тебя злые люди мучают?! Да чтоб вам треснем треснуть, пустоплясам!
Следом вели Маркела. Он не рвался, шел покорно, свесив огромную голову, и кривое лицо его выражало полную покорность судьбе.
– Молчи, накипь! – негромко, но яростно приказал Егор, и при звуке его голоса Фокля вдруг обмякла – так и села наземь, слившись с нею и обратившись в некое подобие кочки.
Маркел вздрогнул, поглядел на Егора – и обвис на руках вцепившихся в него караульных в явном усилии рухнуть на колени перед этим пугающим человеком. Алена поняла: оба приспешника Ульянищи узнали Аржанова и теперь поняли, что часы их сочтены.
Однако Аржанов на них больше не взглянул. Глаза его были устремлены на Ульяну, но ее было не так-то просто испугать. Вырвав одну руку, она поправила платок и с вызовом глянула на Аржанова:
– Ну? Что скажешь, господин хороший? Это не твоею ли волею меня, честную вдову, на позор повлекли?
– Нет, – спокойно ответил Аржанов. – Будь моя воля, ты бы и с крыльца своего живая не сошла, не то чтобы сюда своим ходом, не в кандалах влачиться.
Ульяна опешила от такой прямоты, однако тотчас овладела собой:
– Эт-то еще почему так?..
– A вот почему, – сказал Аржанов и отшагнул в сторону, чтобы Ульяне была видна клетка – и Алена, сидевшая в уголке, и чудовищное существо, обнимающее ее и с угрозою глядевшее на людей.
Ульяна стояла не близко, однако темный взор ее так и вонзился в глаза Алены. И, словно повинуясь натяжению некоей незримой нити, протянувшейся между ними, Ульяна вдруг медленно потащилась к клетке.
По знаку Аржанова караульные отпустили ее, однако сам он не отставал от Ульяны ни на шаг, двигаясь так осторожно, что она едва ли могла заметить его присутствие.
Ульяна шла медленно и неуверенно, словно у нее подкашивались ноги. И чем ближе приступала она к клетке, тем большее изумление и досада выступали на этом грубом, злобном лице.
Эта досада, это изумление, поняла Алена, были вызваны несправедливостью судьбы, которая оставила ее в живых, в то время как Ульяна надеялась увидеть здесь окровавленное тело, а то и вовсе обглоданные косточки.
В ненависти, которую питала к ней Ульяна, было что-то нечеловеческое, ведьмовское, что-то родственное бесовскому наваждению. Говорят, на порченных бесом ведьм нападает черная тоска, которая гложет их за сердце, и заставляет портить людей, и не утихает даже после смерти, принуждая ведьму вставать из могилы и бродить по ночам, потому и подрезают умершим ведьмам подколенные жилы, потому и сжигают их тела на костре, а пепел топят в реке. Подобно такой ведьме, Ульяна никак не могла насытить свою злобу, изобретая для Алены все новые и новые мучения, и она почти не удивилась, увидев, как в глазах ее врага злость на судьбу, оставившую Алену живой, сменяется радостью: ведь если жертва жива, значит, можно продолжать терзать ее! Она собралась с силами, готовясь принять удар… и Ульяна нанесла его.
Глаза ее перебежали с Алены на Мишку – и вспыхнули адским весельем. Снова прозвучал этот ее тихонький, чудовищный смешок, и Ульяна сказала почти ласково, почти с сочувствием – однако яду, которым было напоено каждое слово, достало бы, чтобы перетравить по меньшей мере полгорода:
– Ну что, медведюшка? Говоришь, не тронул девку? Пожалел? Неужто признал сестрицу?
Алене показалось, будто кто-то ударил ее по горлу: дыхание пресеклось, и несколько мгновений она немо глядела на Ульяну, пытаясь захватить приоткрытым ртом воздух. А та с наслаждением усмехнулась, глядя в ее помертвелое лицо:
– Hу, чего трепыхаешься? Дура ты была – дурой и помрешь. Дуракам, знаешь, и в алтаре не отпускают!
Алена шевельнула губами, пытаясь что-то спросить, и, хотя с них не сорвалось ни звука, Ульяна поняла этот невысказанный вопрос.
– Помнишь небось, Надея сказывал: матку твою медведь задрал да братца меньшого приел? Но никто его останков не отыскал, зато через малое время пошел слух, будто объявилась в лесах арзамасских медведица, а при ней – человеческий детеныш. Надея говорил: сам, мол, не видел, но знал людей, которые видели. Это он додумался: а ну как не задрал зверь дитя, а при себе оставил? Порывался пуститься на поиски, да мы с Никодимом отговорили: зачем тебе сердце рвать, небось он, ребенок-то, вовсе одичал в лесу, зверенком сделался, да и ведь неизвестно еще, тот ли ребенок, да и вообще все это сущая брехня.