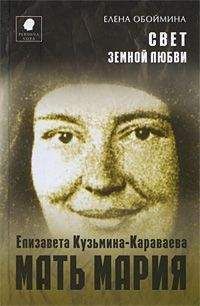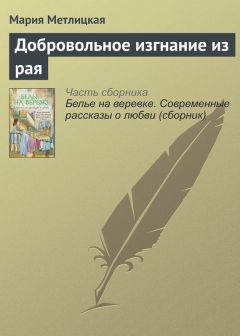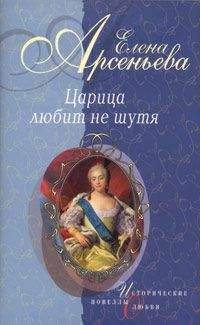Елена Арсеньева - Берег очарованный (Елизавета Кузьмина-Караваева, мать Мария)
Он спрашивает, продолжает ли Лиза бродить, «справилась» ли с Петербургом. Она не понимала, что отвечает. Когда простились, муж сообщил ей, что, оказывается, Любовь Дмитриевна пригласила их на обед.
Ну надо же! А Лиза этого даже не слышала!
Теперь они встретились с Блоком, как приличные люди, в приличном обществе. В 1911 — 1912 годах виделись довольно часто, но всегда на людях.
Лиза изо всех сил старалась доказать ему (не забыла старой обиды!), что ей хорошо живется, что она в семейной жизни счастлива, нашла то, что ей нужно. И с каждым днем все отчетливее понимала: ничего у нее не ладится! И даже мальчик Дмитрий Бушей (двоюродный брат ее мужа, будущий художник), с которым она так любит болтать и которому посвятила одно из стихотворений в первой книге стихов «Скифские черепки», ей куда ближе, чем Дмитрий Кузьмин-Караваев с его пресловутой утонченностьюnote 2.
Между тем Блок вдруг исчез. Не отвечал на телефонные звонки, писем не читал, никого не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но Лизе чудилось, что он не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет чего-то. Было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти — и ничем помочь нельзя…
Однако себе-то она могла помочь.
Она решила расстаться с мужем — без громких слов и истерик, никого не обижая. Просто уехать летом на юг, как обычно, и больше уже не возвращаться в Петербург.
И вот она на юге, и Петербург словно исчез. Долой рыжий туман! Однако в тумане остался заложник. Этот человек — символ страшного мира, единственная правда о нем, а может быть, и единственное, мукой купленное оправдание его — Александр Блок.
Так это понимала Лиза и мучилась о нем несказанно.
Она вернулась осенью 1913-го, уже после развода с Дмитрием Кузьминым-Караваевым. И немедленно угодила на очередную «Башню». То ощущение независимости, которое овладело ею с некоторых пор, прибавило смелости. И на сей раз она не отсиживалась в уголке, словно робкая девочка, а сама первая вступила в спор: говорила о пустословии, о том, что она отвергает падшую культуру, что интеллигенты оторваны от народа, которому нет дела до их изысканных и тем не менее неживых душ, говорила даже о том, что они ответят за гибель Блока…
Откуда вдруг взялись эти слова? Наверное, были продиктованы свыше…
— У России, у нашего народа родился такой ребенок. Такой же мучительный и на нее похожий. Ну, мать безумна, а мы все ее безумием больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем. Как его в обиду не дать, не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту!
Через четыре дня после этой ночи, 1 декабря, Елизавета неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте! Ни объяснений, почему он пишет, ни обращений «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из продолжающегося разговора между ними:
«…Думайте сейчас обо мне, как и я о Вас думаю… Силы уходят на то, чтобы преодолеть самую трудную часть жизни — середину ее… Я перед Вами не лгу… Я благодарен Вам…»
Елизавета и сама не понимала, отчего это короткое и довольно сумбурное письмо так потрясло ее. Главным образом, пожалуй, потому, что оно было ответом на ее восторженные ночные мысли, на ее молитву о нем.
Она не ответила. Да и что писать, когда он и так должен знать и чувствовать ее ответ?
Вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то гибельного и страшного, к чему он шел. Да и не только он — все уже смешивалось в общем вихре. Казалось, что стоит какому-нибудь голосу крикнуть — и России настанет конец…
Весной 1914 года во время бури на Азовском море погрузились на дно две песчаных косы с рыбачьими поселками. В это время земля стонала. А летом случилось затмение солнца. От светила осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори — не только на востоке и на западе, весь горизонт загорелся зарей. Выступили на пепельно-сером небе бледные звезды. Скот во дворе затревожился — коровы мычали, собаки лаяли, стал кричать петух, куры забрались на насесты спать.
Потом началась Первая мировая война. То есть ее тогда никто не называл первой, никто и вообразить не мог, что будет еще и Вторая… и уж ее-то Елизавете Кузьминой-Караваевой не суждено пережить.
Ну, так далеко в свое будущее она не заглядывала. Хватало насущного, нынешнего. Для души — неутихающая любовь к нему, единственному. Для тела — мимолетная любовь к другому мужчине, который в это время встретился на ее пути. Она называла его «лейтенант Глан», по имени знаменитого в то время героя Кнута Гамсуна: не то интеллигента, не то отшельника. Ее лейтенант Глан вскоре сгинул на войне, оставив «на память» о себе дочь Гаяну. Имя ее значило по-гречески — «земная». Девочка была непростая… По ночам, когда на небе сверкали яркие южные звезды, Гаяна тянулась к окну и просящим голосом говорила, обращаясь неведомо к кому: «Дай мне звездочку, что тебе стоит?»
Но это будет потом… А сейчас, осенью 1914 года, Елизавета возвращалась в Петроград с твердым, просто-таки железным намерением: «К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и, уж конечно, не пойду. И вообще сейчас надо своим путем в одиночку идти. Программа на зиму — учиться, жить, со старыми знакомыми по возможности не встречаться».
В три часа дня она уже звонила у блоковских дверей на улице Офицерской, куда он теперь переехал.
Горничная спросила ее имя, ушла, вернулась, сказала, что его дома нет, а будет в шесть часов. Впрочем, Елизавете показалось, что Блок дома… Чтобы душевно окрепнуть перед встречей, пошла в Исаакиевский собор, который находился неподалеку. Забилась в самый темный угол…
В шесть часов опять звонила у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе виднелись дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.
В комнате, в угольном небе за окнами — тишина и молчание.
Ей показалось, что Блок не изменился. Он сознался, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы они оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал еще три часа сроку. Разговор шел медленно и скупо. Минутами говорили о самом главном, минутами о суетном. Он рассказывал, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские и еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, на углах больших улиц, для солдат и народа. Что его тоже зовут читать, потому что это гражданский долг.