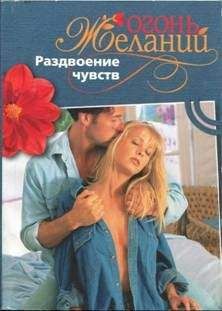Филип Шелби - Оазис грез
– Катя, не расскажете ли вы кое-что о себе? – спросил он ее. – Например, о том, что вам нравится делать, что вам хотелось бы посмотреть здесь?
Катя вся зарделась и тихо пробормотала что-то непонятное.
– Так не годится, – твердо заявил Арманд. – Очаровательные молодые дамы вроде вас должны четко говорить джентльмену, что они хотят делать.
«Хорошо вам говорить это!» – подумала про себя Катя. Она была неуклюжим подростком с костлявыми руками и ногами, выше многих юношей, которые никогда не приглашали ее на танцы, когда приходили на «социальные мероприятия» из колледжа Святого Матиаса. И одна из причин, почему она бормотала, заключалась в том, что Катя неловко чувствовала себя из-за проволочных выпрямителей на зубах.
– Ну, ладно, – продолжал Арманд. – Возможно, я сам предложу что-нибудь. Я очень хотел бы, чтобы вы посетили сегодня мое казино. Вы окажете мне такую честь, Катя?
Купаясь в розовых, голубых и пурпурных отсветах, «Казино де Парадиз» словно поднималось прямо из моря. Когда Катя впервые переступила его порог, ей показалось, что она попала в сказочный мир тысячи и одной ночи. От женщин в вечерних туалетах исходил запах тонких духов, на них сверкали драгоценности, когда они проходили под громадными хрустальными люстрами. Смех и восхитительный шепот каскадами прокатывались под вручную расписанным потолком, от невидимого оркестра лилась музыка. Кате больше всего запомнился момент, когда она неожиданно остановилась в середине огромного холла и замерла. Закинув голову назад, она разглядывала богатую художественную роспись, такая же восхищенная, как первые астрономы, увидевшие на небе созвездия. Казалось, вокруг нее закружился весь мир…
Когда она была подростком, Катя увлекалась журналами мод, внимательно изучая любой попадавшийся ей под руку. В большинстве этих журналов печатались сплетни и светская хроника. Таким косвенным путем она держала в поле зрения Арманда Фремонта. Он всегда был одет в вечерний или обеденный костюм. Его фотографировали либо внутри помещения, либо на территории «Казино де Парадиз», всегда с очаровательной молодой женщиной, совершенство которой вызывало у Кати ревность. Катя размечталась и гадала, каково будет ей снова оказаться в сказочной обстановке, еще раз увидеть Арманда и снова пережить момент, который она испытала, когда он позволил неуклюжему подростку почувствовать себя принцессой. Но шли годы, и этого не происходило. Она больше не ездила в Бейрут, и открытки Арманда, которые он посылал к Рождеству и к дню ее рождения, приобрели характер посланий от заботливого, но полузабытого незнакомца.
Катя налила себе остатки горячего шоколадного напитка, подтянула коленки к подбородку, прижалась щекой к пушистой ткани старого банного халата. Рядом с телеграммой она положила фотографию, где она была снята вместе с отцом. Это было четыре года назад, когда он по делам прилетел в Сан-Диего, а она поехала на поезде, чтобы встретиться с ним в Ла-Джолле. Фон на фотографии захватывающий: подковообразная бухта с голубой водой и белым пенистым прибоем, а в отдалении скалы, изрезанные бухточками и арками, где морской прибой пробил камень. Но судя по своему невеселому выражению на фотографии, как помнилось Кате, она не заметила прелести окружающего пейзажа. Ее лицо на фотографии дышало гневом.
Ее мама умерла, когда ей исполнилось десять лет. Ребенком Катя проводила летние месяцы в Нью-Гемпшире и на Кейп-Коде, а зимы в Вайле или Аспене. Хотя отец редко приезжал во время ее каникул, она не отдавала себе отчета, как скучала по нему, потому что была окружена двоюродными братьями и сестрами.
Хотя Катя горевала, когда болезнь неожиданно унесла ее маму, в глубине души она понимала, что тут ничего не поделаешь. Первые несколько месяцев отец ежедневно заезжал за ней в школу Лоури на Медисоне, и они вместе ехали в машине домой на Парк-авеню. Но потом к школе стали подъезжать служащий и шофер отца, и вечерние обеды превратились в нудное дело, когда бездетная экономка изо всех сил старалась развлечь разговорами озадаченную, напуганную, чувствовавшую себя все более одинокой девочку, которая еле притрагивалась к еде.
Открытки приходили из Парижа, Женевы, Рима и Афин. Из них Катя узнавала, где находится ее отец и как быстро расширяется деятельность банка «Мэри-тайм континентал». Чувство одиночества несколько ослабло, когда она поступила в колледж Уэлсли. Отношения отца с дочерью менялись. Дочь начала понемногу самостоятельно окунаться в окружающую жизнь, горячо этого желая, но побаиваясь, действуя импульсивно, но все еще нерешительно.
Как и многие другие ее сверстницы, Катя предпочла заниматься гуманитарными науками. Но, живя в Нью-Йорке, она отличалась от своих менее космополитичных подруг. Она знала район Виллиджа как свои пять пальцев и по уик-эндам посещала кафе, где собиралась богема, куда приходили битники, чтобы послушать Джека Керуака и Гинсберга. За бесконечным количеством чашек кофе она спорила о достоинствах «Чужака» Колина Вильсона и пришла к выводу, что ее поколение, тощих, бледных, одетых в черные водолазки и штаны, заслуживает большего. Гораздо большего, чем их родители могли когда-либо себе представить, поскольку оказались в плену самодовольной порядочности. Самая сложная часть вопроса заключалась в том, какой именно должна быть эта славная судьба.
Бывали моменты, когда Кате ужасно хотелось поднять телефонную трубку и поговорить с отцом. Но к тому времени она уже наладила отношения с его секретарем, который сообщал ей, что отец уехал, и, побуждаемый чувством вины или жалости, болтал с ней несколько минут. В редких случаях она видела отца, но непродолжительный разговор между ними не клеился. Он почти ничего не знал о ее жизни, где она бывала. Не знал о, казалось бы, безграничных перспективах, открытых перед ней, и о полном отсутствии возможностей критического выбора пути. Иногда Кате казалось, что он тянется к ней, пытается заставить ее объяснить, что именно она чувствует и почему. Она ловила в его глазах боль и разочарование, когда проходил вечер, а они оставались по разные стороны пропасти, которая с каждым годом углублялась. Она опасалась и сердилась на него за то, что, казалось, ни он, ни она ничего не могли сделать, чтобы преодолеть этот разрыв.
– Катя, я люблю тебя. Никогда не забывай об этом.
В глубине сердца она верила ему, но с годами эти слова обесценились.
– Если ты меня любишь, то почему не выберешь для меня время?
– Пытаюсь. Поверь мне, Катя. Дело не в том, что я не забочусь…
– Просто ты больше заботишься об этом дрянном банке.
Катя опять посмотрела на фотографию, снятую в Ла-Джолле. Она видела его боль, слышала эхо своих резких слов о том, что она навсегда останется в Беркли и никогда не возвратится домой.
Фотография как бы заморозила всего один момент из всего, что она пережила за все эти годы. Годы раскаяний и взаимных обвинений, отказа отца ее просьбам приехать в Нью-Йорк, сведения всей переписки к нескольким словам на открытках к Рождеству и дню рождения. Годы, которые никогда не вернутся…
«Проклятье, я даже не припомню, когда в последний раз сказала ему, что люблю его!»
А теперь он навсегда ушел из этого мира…
Пламя стало потрескивать, когда воск растопился, разлившись в лужицы на мраморной поверхности. Катя встала и раздвинула занавески. На небе занималась заря, звезды и серп месяца побледнели. Катя посмотрела на два раскрытых чемодана с уложенной одеждой. Она собиралась автоматически, просто чтобы чем-то занять руки, а теперь ни за что на свете не смогла бы сказать, что туда положила.
– Катя? Катя, ты все еще не спишь?
Тед прикрыл за собой дверь и прошел в гостиную. Он заметил чемоданы и резко взглянул на нее.
– Что, черт возьми, происходит?
Катя взяла со столика и подала ему телеграмму:
– Ты даже не соизволил сказать мне о ней. Он покачал головой.
– Ах, Катя! Господи, виноват. Это ужасно. – Он потянулся к ней, но Катя шмыгнула мимо него.
– Похороны состоятся в Нью-Йорке. Даже не знаю, надолго ли уезжаю.
– Как ты себя чувствуешь? То есть звонил ли тебе этот человек или как?
– Этого человека зовут Арманд Фремонт. Он не звонил мне.
– Могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Катя выдавила из себя подобие улыбки:
– Нет, у меня все в порядке.
– Послушай, Катя. Не знаю, что и сказать. Похоже, ты не была близка с отцом, так ведь?
– Тед, не надо ничего говорить. Просто помолчи. Я как-нибудь справлюсь с этим сама.
– Понятно. Ну, мне будет нелегко здесь без тебя.
– А именно?
– Хирш взял меня на поруки и внес залог, но полицейские все равно клеят мне подстрекательство к мятежу и дюжину других дурацких обвинений. Катя, это не станет судебным процессом. Это выльется в театральное представление. Мы собираемся закатить здесь дьявольскую драму. Тебе захочется принять в этом участие. Это войдет в историю.