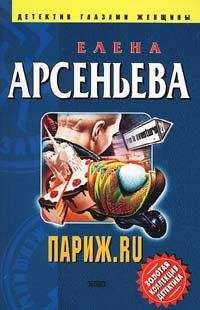Елена Арсеньева - Звезда королевы
Совершенно немыслимым казалось ей сознаться мужу, снова испытать этот позор — у страха хорошая память, как говорил Агриппа д'Обинье. Вдруг сорваться домой, в Россию, — для чего? Чтобы рожать там? Но какими глазами взглянуть в глаза матери? Что сказать ей? Ведь перед собой не может Маша слукавить, будто кинулась на шею Вайяну, желая смягчить свою участь… хотя, бесспорно, не утоми она его своими ласками, вряд ли ей удалось бы сбежать столь легко.
Нет, куда ни кинь, выходило одно: в незнакомом, огромном, чужом Париже следовало искать бабку, повитуху, как они тут называются — sage-femme, что ли?
Однако повитуха — не букет цветов, не курица, не придешь на Рынок да не спросишь ее. Немыслимо даже заикнуться о случившемся, спросить совета у тех дам, с которыми в посольстве свела знакомство Мария; а тетушка, как назло, уехала вслед за княгиней Ламбаль в Версаль, и никто не знал, когда она изволит воротиться. Вот так и получилось, что единственным человеком, который мог хотя бы отдаленно навести Марию на след какой-нибудь тайной sage-femme, оказалась Николь.
Конечно, нечего было и думать — самой прийти к ней. Лучше уж сразу — с камнем на шее кинуться в Сену с Аркольского моста! Пришлось довериться Глашеньке с Данилою — куда ж без Данилы! Ведь не кто иной, как он, должен был выступить в роли соблазнителя маленькой горничной! Но уж тут Мария покривила душой и без зазрения совести представила дело так, будто пала жертвою насилия, заплатив своим телом за возможность остаться в живых. Данила помнил, в каком виде вырвалась она из замка, а потому сразу поверил барыне; зато Глашенька быстрее его поняла, почему госпожа под страхом смерти не желает довериться в этой беде своему мужу. Она и сама боялась барона до судорог, а его полное пренебрежение к молодой и красивой Марии Валерьяновне казалось ей чудовищным и противоестественным. Так что на следующий же день после их задушевного разговора, который очень напоминал разработку стратегической операции (если планирование таковых может прерываться потоками слез), Глашенька в присутствии Николь «упала в обморок». Надо думать, сделала она это достаточно натурально (нагляделась на свою хозяйку!), ибо Николь тотчас бросилась на помощь. Прежде она относилась к Глашеньке довольно неприязненно, однако, услышав ее печальную историю, увидев потоки слез (не стоит забывать, что Глашенька всегда была горазда поплакать!), Николь прониклась сочувствием к бедной горничной, которая смертельно боялась, что хозяйка, узнав о беременности, выгонит ее, и, поразмыслив, согласилась указать бедняжке, где живет вполне приличная повитуха, тайком промышлявшая абортами. Разумеется, Николь заломила за посредничество немалую сумму… Глашеньке пришлось сделать вид, будто она украла у барыни и продала какое-то украшение. Благосклонность Николь после этого простерлась до того, что она собственной персоной решилась проводить Глашеньку до дверей этой самой мамаши Дезорде, и девушке пришлось разыграть страшную сцену отчаяния, страха и нерешительности, чтобы любой ценой избегнуть немедленного осмотра: ее обман тотчас раскрылся бы, и уж тогда ушлой Николь ничего не стоило бы свести концы с концами и догадаться, с кем именно случилась беда!..
Но сегодня Глашеньке удалось избавиться от забот Николь и броситься на улицу Венеции, где жила мамаша Дезорде, чтобы назначить время для прихода своей госпожи… и вот Мария уж все глаза проглядела, а горничной все нет да нет!
Настроение было сквернейшее, с утра беспрерывно мутило, и Мария, с тоской глядя в огонь, поклялась, что, если только удастся на этот раз шито-крыто устроить свои дела, она больше и близко не подойдет ни к какому мужчине… разве что сам барон наконец пожелает иметь ее в своей постели. На это, правда, было мало надежды — и даже сейчас, в минуту крайнего отчаяния, у Марии нашлись силы возроптать на судьбу, которая двух людей, стремящихся к взаимной любви, превратила, можно сказать, во врагов.
Какой-то звук прервал ее невеселые размышления. Чудилось, кто-то мелко стучится в окно. Мария распахнула створки: в саду стояла Глашенька и швыряла в стекло мелкие камушки и сухие веточки, причем лицо ее было таким бледным и перепуганным, что у Марии упало сердце. Глашенька сделала было движение к крыльцу, но Мария остановила ее властным жестом и помогла влезть прямо в окно.
Руки у горничной были ледяные, ее всю трясло, и Мария первым дело подвела Глашеньку к камину, ничуть не сомневаясь: Николь обо всем донесла барону, тот перехватил Глашеньку и подвергнул ее столь суровому допросу, что бедняжка не выдержала — и выдала свою госпожу. Она почти убедила себя в этом и немало изумилась, когда Глашенька, справившись наконец с ознобом, кое-как выговорила:
— Не нашла я ее! Она уехала!
И Марии показалось, что бездна разверзлась пред ней…
* * *Мамаша Дезорде, безвылазно, годами сидевшая в своей лачуге неподалеку от Большого Рынка, вдруг получила известие о смерти своей сестры и тотчас отправилась в деревушку близ Фонтенбло, чтобы успеть взглянуть на наследство прежде, чем на него наложат лапу другие родственники. А когда она воротится и воротится ли вообще, соседям было неведомо, хотя все они в один голос молили Бога о том, чтобы никогда больше не видеть сию старуху, промышлявшую таким дьявольским ремеслом: недаром имя Дезорде по-французски означает «непорядок»!
У Маши при этом известии ноги подогнулись, и она сделалась столь же бледная и дрожащая, как и Глашенька. Такими их и нашел обеспокоенный Данила, — но не стал соучастником их отчаяния, а тут же предложил выход: немедленно отправиться ему в эту hameau [113], отыскать мамашу Дезорде и привезти ее в Париж. Он поклялся, что справится во что бы то ни стало, и ежели ему придется сгрести повитуху в охапку и всю обратную дорогу нести на руках, то он понесет ее!
Маша вновь едва не зарыдала — на сей раз от облегчения. Она понимала, что сама-то никак не могла вызвать к себе такой любви и преданности Данилы, — это он по гроб жизни полагал себя обязанным княгине Елизавете, на которую всегда смотрел снизу вверх, как на небожительницу, зачем-то сошедшую на землю, но на дочку падал отсвет очарования матери, а стало быть, Данила почитал своим долгом верно служить и Марии Валерьяновне. Поцеловав руку барыне и приняв от нее благословение, Данила ринулся на конюшню, и ближайший час Мария пребывала в блаженном спокойствии… пока ей не доложили, что какие-то добрые люди принесли беспамятного Данилу, который, не доехав и до окраины города, упал с запнувшегося коня, сильно расшибся и даже сломал ногу.
Поднялась суматоха, позвали врача. Тот наложил лубки и предписал больному полный покой. Из глаз Данилы текли слезы, но не от боли или жалости к себе, а от жалости к своей госпоже, помочь которой он сейчас уже не мог… Да и никто не мог ей помочь!