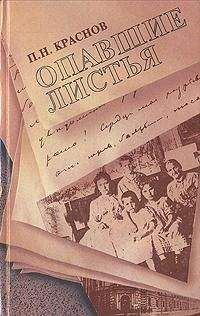Уильям Коллинз - Опавшие листья
– Могу я осмелиться сделать замечание, сэр? – спросил Тоф после довольно продолжительного молчания.
– Конечно.
– И могу я позволить себе выразить свободно свои чувства?
– Можете.
– Дорогой сэр, у вас отличный обед сегодня, – начал Тоф. – Простите мне, что я хвалю самого себя, я нахожусь под влиянием весьма естественной гордости, состряпав такой обед. Все было так вкусно, так хорошо, а вы почти ничего не кушали, и вместо обычного приятного разговора вы были погружены в меланхоличное молчание, преисполнившее меня сожалением. Вас ли следует обвинять за это? Нет, жизнь, которую вы ведете. Я называю это жизнью монаха, затворника, жизнью, не подходящей для молодого человека. Извините за горячность моих выражений, я желал бы сделать язык свой, как можно изящнее. Могу я сослаться на песню? Это старая, старая французская песня, давно забытая, называвшаяся: мужья холостяки. В этой песне две строки, которые часто певал мой отец и которые я хочу применить к вам. «Любовь, нежность и веселость, вот девиз настоящего француза». Вы, сэр, обладаете нежностью и веселостью, только последняя в продолжение нескольких дней находится под спудом. L'amour! Love, как вы называете по-английски! Где та прелестная женщина, которая должна служить украшением этому очаровательному коттеджу? Почему не видать ее? Исправьте этот недостаток, сэр. Вы здесь в загородном раю. Вследствие моей долголетней опытности прошу вас, пригласите сюда Еву. А, вы улыбаетесь, потерянная веселость возвращается, и вы это сознаете так же, как и я. Могу я предложить вам еще стаканчик Бордосского и кусочек мяса под соусом?
Невозможно было оставаться грустным в обществе такого человека. Амелиус потребовал еще соуса и выпил стакан вина.
– Мой добрый друг, – сказал он, несколько оживившись, – вы говорите о прекрасных женщинах и вашей долголетней опытности. Дайте возможность мне услышать о том, какого рода вы имели опыты.
Сначала Тоф сконфузился, но, быстро оправившись, заговорил:
– Вы почтили меня названием вашего друга, сэр. После этого я уверен, что вы не захотите прогнать меня, если я сообщу вам всю истину. Нет! Мое сердце говорит мне, что я не напрасно взываю к вашему снисхождению. Дорогой сэр, в праздничные дни, когда вы отпускали меня отдохнуть, я оставлял надежного человека, который заботился о доме в мое отсутствие, не правда ли? Один из них был красивый молодой человек, если вы помните. Это сын мой от первой жены, в настоящее время ангела на небесах. Другой, стороживший ваш дом, был черноглазый мальчик, чудо скромности для его лет. Это сын мой от второй жены, – тоже ангел на небесах. Простите мне, я еще не кончил. На днях вам показалось, что вы слышали детский крик внизу лестницы. Как подлый негодяй, я солгал, сказал, что это ребенок в соседнем доме. Ах, сэр, это был мой собственный херувим, ребенок от третьей жены, ангела, живущего на улице Эджевар, в маленьком модном магазине, из которого выходят великие произведения. Промежутки между моими женитьбами не заслуживают вашего внимания, были только мимолетные прихоти, сэр, мимолетные фантазии! Чтоб резюмировать все, как говорят в Англии, достаточно сказать, что я не могу противостоять женскому полу. Если умрет мой третий ангел, я вырву все свои волосы, но не замедлю приискать четвертого.
– Возьмите хоть дюжину, если вам это нравится, – сказал Амелиус, – но к чему вы все это мне рассказываете?
Тоф повесил голову.
– Я полагаю, что это один из моих недостатков. Публикации прислуг в ваших английских газетах пугают меня. Как самый лучший слуга-мужчина публикует о себе, когда он нуждается в хорошем месте? Он говорит «свободный, не обремененный». Боже милостивый, какое ужасное выражение относительно бедных, прелестных малюток! Я боялся, сударь, что вы будете иметь что-нибудь против моего «бремени». Молодой человек, мальчик и дитя-херувим, не говорю уж о священной памяти двух жен и восхитительного, случайного присутствия третьей, – все это опутывает жизнь влюбленного, достойного француза. Вот достаточно причин для колебаний. Но не в том дело. Я благословляю мою звезду, что теперь освобожден от дальнейших предосторожностей. Позволю себе обратить ваше внимание на Рокфорский[6] сыр, сударь.
Обед был окончен, и Амелиус остался, наконец, один. Наступил вечер, было так тихо, что ветер не шевелил даже листьев на деревьях в саду. Ни одна тележка не проезжала по боковой дороге около коттеджа. От времени до времени слышался снизу лестницы разбитый голос Тофа, распевавший песни, между тем как он мыл тарелки и блюда и приводил все в порядок. Амелиус посмотрел на полки и решил, что после Роб-Роя ему в этот вечер нечего более читать. Минуты медленно тянулись за минутами, смертельное уныние снова охватило его душу. Чем мог он этому помочь? Его благоразумные привычки в Тадморе предлагали лишь одно средство. Каковы бы ни были его тревоги, у него был самый простой метод избавляться от них. Он пошел гулять.
Часа два бродил он по предместью Лондона. Может быть, дурная погода, может быть, плохо переваренный обед тяжело действовали на него, только он так утомился, что должен был вернуться в коттедж на извозчике.
Тоф отпер дверь, но не с обычной живостью. Амелиус был слишком утомлен, чтоб заметить это ничтожное обстоятельство. В противном случае он бы увидел какое-то странное выражение на увядшем лице француза. Он с участием и беспокойством смотрел на своего господина, когда брал у него шляпу и пальто, но вместе с тем сардоническое и веселое выражение преобладало у него над другими, более серьезными ощущениями. «Тяжелый, неприятный вечер», – сказал Амелиус. А Тоф, всегда столь говорливый, теперь только ответил: «Да, сэр», – и удалился в кухню.
Амелиус отправился в библиотеку и уселся в своем любимое, мягкое кресло. Огонь горел в камине, занавесы были спущены, на столе стояла лампа для чтения со своим зеленым абажуром, нельзя было найти комнаты более комфортабельной и удобной после долгой прогулки. Развалившись в кресле Амелиус подумал, не позвонить ли ему и не потребовать ли чего-нибудь подкрепляющего, хоть водки с водой, но не успел он подумать, как уснул, а пока спал, видел сон.
Сон ли это был?
Правда, он видел библиотеку фантастически изменившейся, но видел ту же самую комнату, и те же предметы, что наяву. Но вскоре совершившееся событие заставило его сомневаться в действительности. Простодушная Салли, находившаяся в приюте за несколько миль от Лондона, явилась в библиотеке. Он увидел, как раздвинулись занавески и из-за них выступила девушка, остановилась и робко посмотрела на него. Она была одета в то платье, которое он купил ей, и казалась прелестнее обыкновенного. К красоте юности присоединилась теперь красота здоровья: щечки ее пополнели и бледные губки стали ярко-розовыми. Страх ее мало-помалу прошел, она улыбнулась, тихо прошла через комнату и остановилась подле него. Посмотрев на него несколько минут с выражением нежности и радости, она оперлась руками на ручки его кресла и мягким, приятным голосом, который он так хорошо помнил, проговорила: «Мне хочется поцеловать вас». Она наклонилась к нему и спокойно, невинно, как ребенок, поцеловала его. Потом она приподнялась и осмотрелась кругом. «Достаточно огня в камине», – пробормотала она и в ту же минуту погасила лампу. Стало темно, ему не стало ее видно, не стало и слышно. Наступила тишина, он совсем уснул. Его последующее ощущение было ощущение холода, он вздрогнул и проснулся.