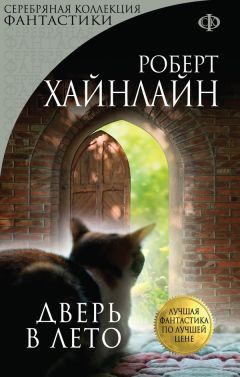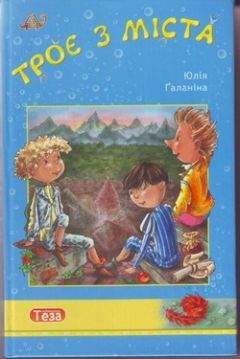Елена Арсеньева - Шальная графиня
Ну, сейчас-то положение Елизаветы несколько улучшилось, однако особенно этим обольщаться она не спешила: слишком много всякого пришлось перенести. Конечно, иногда позволяла себе помечтать о некоем чудесном спасении и возвращении домой, но в мечтах сверкала всеми цветами радуги только первая картина: вот она входит в ворота усадьбы, вот подхватывает на руки Машеньку и осыпает ее поцелуями, вот обнимает Татьяну... и все, а дальше успокоительные видения мирной, спокойной жизни были подернуты черной тенью все той же тоски. Господи, да что за разница, где этой тоской томиться: среди роскоши Любавина или в убожестве ее нынешнего существования, если нет конца отчаянию, нет ответа на вопросы: где Алексей, почему он ее покинул?..
* * *Кому рассказать – не поверят, что боль в связанных руках едва ли могла осилить боль их внезапной разлуки. Она почти не помнила тот ночной путь по лесной дороге – небрежно перекинутая через седло, с кляпом во рту, от которого ее наконец стало так мутить, что она впала в некое сонное забытье. Вдобавок затекло все тело, так что, когда похитители остановились и обладатель цепких, бесцеремонных рук опустил Елизавету на землю, она упала: ноги не держали.
Уже занимался рассвет. Над нею нависло грубое, равнодушное, с тяжелыми, словно высеченными из бревна, чертами лицо человека, который вытащил изо рта кляп и дал напиться воды из долбленки, притом столь неуклюже, что вода почти вся пролилась. Елизавета связанными руками размазала ее по опухшему от слез лицу.
Второй похититель, высокий и тощий, казавшийся еще длиннее и худее от черного узкого кафтана, с лицом незначительным и кургузым, словно бы сжатым в кулачок, бесцеремонно задрал лежащей Елизавете платье до колен и принялся разминать ее замлевшие ноги. Его прикосновения были похотливы и омерзительно-вкрадчивы – ну словно таракан пробежал по голому телу! Елизавета взвыла от отвращения, после чего в рот ей снова был засунут кляп, а первый похититель отвесил своему сотоварищу весьма увесистую оплеуху, пролаяв какое-то приказание, после чего Таракан вывел из-за кустов лошадей, впряженных в небольшую каретку, куда и запихнули Елизавету. Таракан порывался сесть рядом с нею, но Бревноголовый погрозил кулаком – и тот, ворча, полез на козлы. Он понукнул лошадей – и тряская тьма окутала Елизавету и ее спутника.
Прошло некоторое время, и Бревноголовый изрек голосом столь тяжелым, словно камни во рту ворочал:
– Вот, барыня, давай договоримся: я, так и быть, тряпку те изо рта выну. Только знай: шумнешь иль хоть словцо обронишь – обратно воткну. Сама и думай, согласна иль нет.
Сочтя вынужденное молчание Елизаветы знаком согласия, он потянул за краешек влажного комка, ворча:
– А ежели по нужде, то дозволяю сказать. Однако и при этом деле я рядом с тобой буду. Да не трясись, больно надо твои телеса разглядывать. Иль у тя что иное есть, чего я не видал? Привяжу за веревку, сам в сторонку стану – и справляй, пожалуйста. Ты меня не бойся, ты вон его бойся! – Глаза Елизаветы слегка привыкли к темноте, царившей внутри кареты, и она разглядела, что Бревноголовый кивком указал туда, где сидел кучер. – Больно охочий до баб, вовсе с ними безголовый, хотя так-то хитер и храбер. Он тебя и сыскал. Мы уже всю надежду потеряли, да, на счастье, эта шалая девка попалась – указала, где видела тебя с полюбовником.
Елизавета резко, хрипло вздохнула.
– Где он? Что вы с ним сделали?
– Он? – удивился Бревноголовый. – Мы никого не видели. Про него девка нам сказывала: мол, полюбились вы, а он и ушел. Эй, барыня, статное ли дело: тебе, такой богачке, на берегу с первым встречным валяться!
Почему-то этот нелепый укор больше всего взъярил Елизавету – настолько, что она забыла и о боли в уязвленном сердце, и об угрозе похитителя и взвилась:
– А тебе что за дело? Ты что – иеромонах святой, чтоб меня позорить? И что это за девка такая?
– Никшни! – грозно зависла над нею глыба его тела, и Елизавета с таким ужасом забилась в угол, что это, видимо, смягчило сердце Бревноголового: он не стал затыкать ей рот, а только пристращал: – Так и быть, прощу один раз, но уж вдругорядь ничего не спущу. А девку Улькою звать, сказывала она.
Елизавета только и могла, что зубами скрежетнула, и Бревноголовый захохотал – словно какую тяжесть уронил.
– Ну, не ярись! Он-то... – опять кивок вперед, на напарника, – тут же сию девицу ножичком – чирк! Вроде как отомстил за тебя! – И, довольный своей жуткой шуткою, он вновь захохотал, а Елизавета зажала рот ладонью, чтобы не закричать.
Итак, Улька! Елизавета была столь обозлена на свою бывшую горничную, что страшная участь ее не больно и тронула. А поделом тебе, тварь!.. Ужаснуло лишь, что находится она в руках людей неумолимых и предусмотрительных – Ульку-то убили, чтоб не навела на их след! – безжалостных, нечего и надеяться как-то обвести их вокруг пальца.
И в этом она смогла не раз убедиться на протяжении их безостановочного пути в затемненной карете. Когда въезжали в городок или даже в самое малое селение, Елизавете завязывали рот, запеленывали в зеленый плащ так, что ни рукой, ни ногой шевельнуть, а если где останавливали солдаты или жандармы, то по обрывкам разговоров, долетавших снаружи, Елизавета догадывалась, что ее выдают за скорбную разумом, которую везут в смирительный дом, – вот и бумаги на то выправлены... Судя по тому, что в карету никто не заглядывал, бумаги были и впрямь выправлены убедительные, а скорее щедро давался барашек в бумажке: уж больно сговорчивыми оказывались все как один досмотрщики. Впрочем, еще по петровскому указу, подтвержденному в 1735 году Анной Иоанновной, велено было лишившихся рассудка отсылать в дальние монастыри «к неисходному их тамо содержанию и крепкому за ними смотрению», – так что узница черной кареты никого не интересовала.
Поначалу, когда приостанавливались у постоялых дворов или станций, где меняли лошадей, похитители уходили есть по очереди, оставшийся караулил Елизавету (Таракан, по счастью, рук больше не распускал), потом приносили пищу ей, но через две недели пути, когда она уже вконец изнемогла от темноты, тряски, неизвестности, а еще пуще – от нечистоты своего тела, от свалявшихся, сальных волос, похитители, верно, сочли, что опасности остались позади, и сняли завеси с окон.
Елизавета, часто моргая слезящимися глазами, уставилась в окошко, с каким-то даже недоверием разглядывая однообразно-зеленые поля, засеянные овсом, рожью, ячменем, изредка прерываемые густыми перелесками. Кряжистые березы, приземистые сосны, можжевеловые кусты указывали, что Елизавету завезли в края более холодные, неприветливые, северные – совсем ей незнакомые.