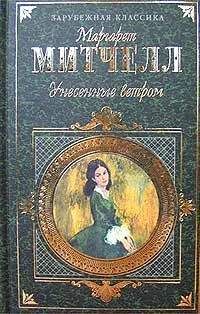Филиппа Грегори - Земля надежды
Это была еда, еда, которой он второпях набил сжавшийся желудок, еда, слишком питательная для организма, долго жившего на грани истощения.
— О боже! — вскрикнул Джон.
Боль была такой, будто его ударили мечом в сердце.
Он скорчился и, согнувшись вдвое, рванулся к двери. Он едва успел выскочить из дома, как его тут же пронесло. Он почувствовал, как сила, обретенная утром, взорвалась внутри и вытекла наружу. Он прислонился к дверному проему, обессиленный болью, и почувствовал, как под ударами спазмов, скручивавших его желудок чудовищными челюстями, слабеют руки.
— Какой дурак, ну, какой же я дурак… — еле смог проговорить он между спазмами.
Ему следовало бы знать, что организм не воспримет такую питательную еду после недель голодания.
— Какой дурак… какой дурак.
Атака боли приутихла, и Джон, наполовину спотыкаясь, наполовину ползком, вернулся в дом. Воняло от него страшно, но он никак не мог заставить себя снова спуститься к реке и вымыться. Он завернулся в накидку и лег перед очагом.
Он понял, что чувствует себя слишком плохо, чтобы дойти до Хобертов. Он не сможет управлять каноэ одной рукой. Он не сможет вскапывать землю под сад, пока не заживет рука. А пока не пройдет дизентерия, он вообще ни на что не годится.
Даже если в этом отчаянном положении он решится спуститься к реке, потом у него не хватит сил, чтобы снова подняться по склону. Он лежал, греясь в тепле очага, и благодарил Бога, что утром у него хватило ума положить побольше дров и развести огонь посильнее. Потом он закрыл глаза.
Каждый раз, когда болезненные спазмы в животе будили его, он поворачивал голову к двери. Джон думал, что если Сакаханна снова не придет с едой, водой и травами, чтобы вылечить его обожженную руку, он, скорее всего, так и умрет, лежа перед затухающим огнем, с голой задницей, больной, с бесполезной рукой.
Она не пришла.
Когда спустились сумерки, Джон подполз к двери и закрыл ее, опасаясь ночных существ. Если сегодня ночью волки подберутся поближе, то отделять их от Джона будет только закрытая дверь, а они могут сломать ее одним прыжком. У Джона не было сил даже зарядить мушкет.
Он чувствовал, как потеет под своей накидкой, потом ощутил влагу и омерзительное зловоние, означавшее, что кишечник снова опорожнился. Он не мог ничего сделать, только лежал в собственных испражнениях. Ночью его вырвало на пол, рвота растеклась лужицей вокруг, и от этого запаха его снова затошнило. Но из пустого желудка вытекала только горькая желчь. Он приподнялся на локте и подложил в огонь дров. Потом Джон уснул.
Он проснулся утром, все тело болело и дрожало, как в лихорадке. В руке пульсировала боль, пальцы почернели. В доме воняло, как из сточной канавы, а накидка приклеилась к телу высохшим дерьмом. Он пополз к двери, открыл ее, по дороге пытаясь отодрать от спины накидку. Кожа была содрана, спина болезненно кровоточила. Зрение то пропадало, то возвращалось, и открытая дверь казалась ему колеблющимся прямоугольником золотого и зеленого света.
На пороге стоял черный глиняный горшок с чистой водой и рядом с ним еще один горшок с теплой кукурузной кашей.
Джон услышал, как его больное горло издало тихое рыдание благодарности. Он подтащил к себе горшок с водой и осторожно отхлебнул из него. В желудке забурчало, но ужасные болезненные спазмы прошли. Он подтащил себя к порожку, присел на него и поднес к губам горшок с кашей. Эта каша сильно отличалась от той, что он варил в грязном горелом котелке. Эта каша была легкой и желтой, как бланманже, сдобренное чем-то вроде шафрана, она еле заметно пахла травами. Джон осторожно отхлебнул и, несмотря на ворчание голодного желудка, заставил себя подождать, отхлебнуть воды, остановиться. Потом он проглотил еще немного каши.
Осторожно и так медленно, что на завтрак ушло почти все утро, Джон съел кашу из горшка и выпил почти всю воду. Часом позже он обнаружил, что может встать, не теряя при этом сознания. Обессиленно цепляясь за дверной косяк, он поднялся на ноги и выкинул из дома свернутую накидку. Вдоль всего фасада дома протянулась полоска очищенной и вскопанной земли, от того самого места, где Джон единожды воткнул в землю свою мотыгу, и до самой двери, где грядка аккуратно заканчивалась четким квадратом. Джон посмотрел на грядку и потер глаза. Может, это бред, вызванный лихорадкой и болезнью?
Нет. Это была реальность. Она пришла ночью и расчистила полоску земли, чтобы он мог сажать свои семена. Она пришла и увидела, что он болен, и поняла, что он ел слишком быстро и своей жадностью и глупостью подвел себя к порогу смерти. На сей раз она оставила ему не роскошную трапезу, а скудную еду из жидкой каши и воды, чтобы он снова мог стать здоровым. Она обращалась с ним как с ребенком, выбирая, что ему есть, и делая за него его работу. Джон готов был заплакать из благодарности за то, что она была готова приносить ему еду и воду, работать за него. Но вместе с этим он переживал и чувство страшного неудобства от того, что она видела его таким беспомощным, что она понимала — он ни на что не способен в этом новом мире, даже выжить не может.
— Сакаханна? — прошептал он.
Ответа по-прежнему не было, только пенье птиц и кряканье уток на реке.
Джон поднял грязную накидку и заковылял к реке, чтобы замочить ее, и сам погрузился в холодную воду, пытаясь помыться. Снова он с трудом взобрался по пологому подъему к дому, таща за собой мокрую ткань, сбивая босые ноги о камни. Рука болела, в голове стучало, желудок болезненно сжимался.
— Я не могу выжить здесь, — Джон с огромным трудом, еле преодолев подъем по маленькому холму, добрался до двери. — Я должен каким-то образом спуститься по реке и добраться до Бертрама. Я здесь умру.
На какое-то мгновение он задумался: может, ему нужно дождаться ее, может, ему нужно лечь перед огнем, тогда, возможно, она придет и будет жить с ним, как они и собирались. Но тот осторожный способ, которым она общалась с ним, был достаточно ясным предупреждением. Он не может рассчитывать на то, что она спасет его. Он должен сам помочь себе.
— Я должен отправиться вниз по реке, к Бертраму, — сказал он. — Если она захочет прийти ко мне, она меня найдет.
Штаны и рубашка были, по крайней мере, чистыми и сухими. У него ушло много времени на то, чтобы натянуть их. Сапоги он надел после долгой борьбы, которая оставила его задыхающимся, ему пришлось согнуться, чтобы прошло головокружение.
Он не взял с собой мушкет, потому что в каноэ не мог зарядить его и держать фитиль горящим. Больше ему нечего было захватить с собой. Новая страна, которая, как он решил, сделает его богачом, сделала его беднее последнего нищего. Все, что у него было, — это одежда. Все, что он мог сделать, — это проковылять, шатаясь, как пьяный, вниз по склону, туда, где он вытащил каноэ на берег, чтобы прилив не достал его.