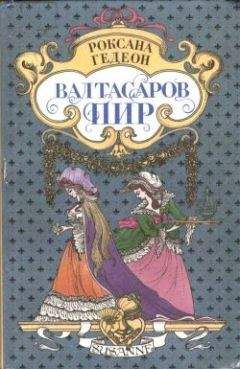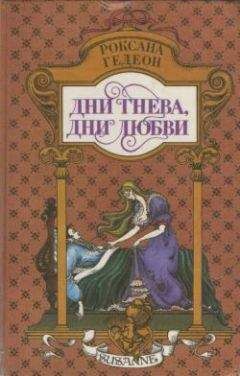Роксана Гедеон - Великий страх
Мне показалось чудовищным, что в такую минуту он может думать о королеве и каких-то пациентах. Вцепившись пальцами в простыни, я почти выкрикнула:
– Ну и идите! У меня и в мыслях нет вас удерживать! Я хочу лишь увидеть своего сына, и я имею на это право, вы слышите?!
Мне показалось, что от этого усилия комната перед моими глазами перевернулась. Я откинулась на подушку, закрыв глаза. Лассон поднес к моему лицу нюхательную соль, сильный запах ударил мне в голову.
– Ну, убедились сами, насколько вы еще слабы?
– Мне все равно. Я хочу видеть сына.
– Матильда, – приказал Лассон сухо, – принесите мальчика.
Он повернулся ко мне.
– Предупреждаю, я не позволю вам брать его на руки, об этом не может быть и речи.
– Хорошо, – прошептала я, готовая согласиться с чем угодно. – Я все равно не смогла бы его держать.
– Вот он, сударь, – сказала Матильда, входя.
Я взглянула. На руках у сиделки был маленький сверток из кружев и пеленок, такой маленький, что меня бросило в холодный пот. Боже, да ведь в нем не больше трех фунтов… Он не шевелился, не кричал, не плакал, даже не пищал. А личико – крохотное, бледное, сморщенное, оно ясно свидетельствовало, что у этого ребенка нет сил для жизни. Прикусив губу, я с болью ощутила, как заныло у меня сердце от жалости и ужаса.
– Он едва дышит, – в отчаянии прошептала я. – Господин доктор, что же будет? Кто кормит моего малыша?
– Мы нашли кормилицу, не беспокойтесь.
Я не знала даже, может ли этот ребенок взять грудь. Он такой слабый, такой маленький – я в жизни не видела таких маленьких детей! Он не больше мужской ладони!
– Матильда, – сказал Лассон, – унесите ребенка.
– Нет, – вскинулась я. – Не уносите, ну пожалуйста! Если его унесут, я его больше не увижу. Пусть этот хилый мальчик будет со мной, он ничуть меня не потревожит… Слезы появились у меня на глазах, потекли по щекам, вискам, смачивая густые волосы. Я так умоляюще посмотрела на Лассона, что он отвел взгляд.
– Хорошо, – пробормотал он в сторону, – пусть мальчик будет здесь, хотя…
Лассон быстро вышел, так и не договорив. Я заплакала сильнее. Даже врач не верит, что Луи Франсуа будет жить, – это ясно по его безнадежному тону…
Я выпила лекарство, хотя не испытывала никакого желания поправиться, а потом долго лежала без слов и слез, отвернувшись к окну. Мне было плохо, внутри все сжималось от боли. Затылок до сих пор ныл так сильно, что я невольно стонала.
– Дорогая, вы не спите? – раздался женский голос.
Я повернула голову. Это была мадам Лукреция, пришедшая, видимо, навестить меня.
– Да, – сказала я холодно и неприязненно. – Вы тоже пришли сказать мне, что мой мальчик умрет?
Она пораженно смотрела на меня.
– Сюзанна, как вы можете? Я только хотела передать вам, что Франсуа давно хочет повидать вас. А вы сами разве не хотите этого?
Имя Франсуа, произнесенное вслух, вызвало у меня внутри настоящий взрыв. Ненависть – сильная, откровенная – пронзила меня. Ах, этот Франсуа… Я подалась вперед, глядя на мадам Лукрецию горящими глазами.
– Уйдите прочь, убирайтесь! – с ненавистью крикнула я ей в лицо. – Какого дьявола вы здесь живете? Ваше место в Оверни, возвращайтесь туда! Вы же не любите меня, так что смерть ребенка для вас все упростит! А Франсуа… Да он будет последним, кого я захочу видеть!
Закрылась дверь, наступила полная тишина. У меня пропали все силы. Упав на постель и уткнувшись лицом в подушку, я зарыдала. Ярость, сознание собственного бессилия душили меня. Ну что я могла сделать, чтобы спасти Луи Франсуа? Ничего.
Как и все, я могла только ждать.
6Луи Франсуа умер 21 сентября 1790 года, в четыре часа утра, перед самым рассветом. Семнадцать дней он прожил на свете. Колыбель рядом с моей постелью теперь стояла пустая.
Похороны состоялись два дня спустя, и я не могла на них присутствовать. Я пока могла лишь сидеть на постели, обложенная подушками, худая, с черными кругами под глазами. Я ни с кем не разговаривала. Лишь один-единственный раз я спросила у Денизы – в тот день, когда были похороны, где сейчас находится мой муж. Служанка сказала, что после похорон он отправился в Собрание.
Я почувствовала, как глубокая неприязнь снова захлестывает меня. Надо же, какая сухость, какая непробиваемость… Сегодня, в день похорон своего сына, он ушел в Манеж! За какое чудовище я вышла замуж!
Внизу слуги собирали вещи мадам Лукреции, которая наконец-то возвращалась домой, в Овернь, – вероятно, такое решение пришло к ней после моей вспышки. Я не собиралась просить у нее прощения. Я вяло и безучастно слушала голос Маргариты, старавшейся меня утешить. Она говорила, что я еще молода, что у меня еще будут дети, много детей… Я во все это не верила. Все эти утешения были направлены на то, чтобы заставить меня забыть о Луи Франсуа, а я не хотела о нем забывать.
Я лишь попросила Маргариту не напоминать мне о муже. Мне было неприятно даже слышать о нем. Как хорошо, что он не приходит… Он ведь никогда не дорожил нашим ребенком так, как я. Он готов был с легкостью прожить без него. Иначе бы он никогда… Словом, мне было невыносимо больно, когда я вспоминала, что Франсуа является сторонником и защитником тех самых людей, что так зверски избили меня на площади, из-за которых случилось это несчастье, из-за которых умер Луи Франсуа. Мой муж был врагом этого ребенка. Он желал ему только зла.
Я уже ничего не хотела понимать, входить в чье-то положение. Если у Франсуа какие-то другие взгляды – пусть катится ко всем чертям. Смерть ребенка перечеркнула все. Никогда я больше не соглашусь со своим мужем, у меня теперь достаточно для этого раздражения и упрямства.
Он пришел поздно вечером, но я не спала. Он сел рядом, взял меня за руку, стал говорить то же самое, что говорила Маргарита, – о будущей жизни, будущих детях… Я смотрела на него и думала: неужели он не понимает? Неужели не видит пустоты в моих глазах? Неужели еще думает обмануть меня этой болтовней?
И я вдруг сказала – громко и резко:
– Вы лжете, Франсуа. Я вам не верю.
Наступила пауза. Я поспешно высвободила свою руку.
– Вы никогда не хотели быть со мной счастливым, и никогда ничего не сделали для этого. То, как вы себя до сих пор вели, – именно это делало нашу жизнь невозможной.
– В какой лжи вы меня обвиняете? Вы что, не верите, что я хотел иметь семью, детей и дом?
– Черт побери, для мужчины мало этого хотеть! – воскликнула я в бешенстве.
Подавшись вперед и вцепившись пальцами в одеяло, я сказала гневно, горячо и торопливо:
– Для того чтобы быть мужем, мало одного желания! Надо строить свою семью, надо защищать ее, надо любить ее всем сердцем, превыше всего на свете – политики, Собрания, министров! Надо, чтобы семья была уверена в вашей любви! А вы… вы только хотели. Подумаешь, какое усилие для тридцатипятилетнего мужчины!