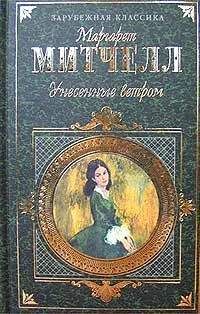Филиппа Грегори - Земля надежды
Набив живот кашей, Джон напился и стащил сапоги, готовясь ко сну. Накидки рядом не оказалось. Он осмотрелся, ища ее взглядом, ругая себя за то, что ленился вешать ее на место каждое утро. Ее нигде не было видно.
Джон почувствовал тревогу, несоразмерную пропаже. Не было накидки — накидки, которую дала ему с собой Эстер, накидки, в которой он всегда спал. Он почувствовал, что в нем поднимается дикая паника, грозящая задушить его.
Он направился в тот угол, где были свалены вещи, и переворошил всю кучу, в спешке швыряя вещь за вещью на землю. Накидки там не было.
— Думай! — скомандовал он себе. — Думай, придурок!
Он постарался успокоиться, и дыхание, которое стало хриплым и беспорядочным, выровнялось.
— Я должен оставаться спокойным, — сказал себе Джон, и голос его задрожал в темноте. — Я просто где-то ее оставил. Вот и все.
Он попытался вспомнить по порядку, что он делал. Днем он спал в своей накидке, потом выскочил наружу, когда выгорел огонь. Это он помнил. Накидка путалась у него в ногах, и он отшвырнул ее впопыхах, когда спешил принести сухие дрова и снова зажечь огонь.
— Я оставил ее снаружи, — тихо сказал он. — И сейчас я должен пойти и принести ее.
Он медленно подошел к двери, положил руку на деревянный засов. И остановился.
Холодный ночной воздух через щели между досками двери погладил его лицо, как ледяной вздох. За деревянной дверью было темно, никогда раньше Джон не видел такой темноты, темно той чернотой, которой не бросал вызов ни единый свет очага, ни одна свеча, ни один факел на десятки миль в одном направлении и на сотни, тысячи, возможно, миллионы миль на запад. Это была тьма столь могущественная и столь полностью лишенная света, что у Джона пробежал глупый, суеверный страх, что, как только он приоткроет дверь, тьма ворвется в комнату и погасит огонь. Темнота была слишком велика для того, чтобы он осмелился бросить ей вызов.
— Но я все равно хочу найти свою накидку, — упрямо сказал он.
Медленно, со страхом он чуть-чуть приоткрыл дверь. Звезды прятались от него за плотными облаками. Темнота была абсолютной. Тихо поскуливая, Джон упал на четвереньки, как ребенок, и пополз через порог дома, руками нащупывая дорогу, надеясь дотронуться до накидки.
Что-то коснулось его вытянутых пальцев, и он отшатнулся, всхлипнув от страха. Но тут же понял, что трогает мягкую шерсть накидки. Он прижал ее к груди, как будто она была настоящим сокровищем, одним из самых красивых, редчайших ковров короля. Он зарылся в нее лицом и нюхал свой собственный сильный запах без малейшего отвращения, а, наоборот, с чувством облегчения от того, что в этой ледяной, пустой тьме хоть что-то пахнет по-человечески.
Он не отважился повернуться спиной к пустому бесконечному пространству. Прижимая одной рукой накидку к груди, он пополз назад, все еще на четвереньках, ко входу в дом, как перепуганное животное, отступающее в свою нору, и потом закрыл дверь.
Когда он вернулся в дом, освещенный неровным пламенем очага, которое то вспыхивало, то гасло, его глаза, уставшие от напряжения вглядываться в темноту, слепо заморгали. Он встряхнул накидку. Она была влажной от росы. Джону это было безразлично. Он завернулся в накидку и лег спать.
Лежа на спине, со все еще широко открытыми от страха глазами, он видел, как от него поднимается пар. Если бы он не был в таком глубоком отчаянии, он бы посмеялся над этим оголодавшим человеком, у которого на ужин была только каша, над этим замерзшим человеком, завернувшимся в намокшую тряпку, над пионером, у которого здоровой осталась только одна рука. Но ему было не до смеха.
— Боже милостивый, сохрани меня этой ночью и утром научи, что мне делать дальше, — сказал Джон, закрывая глаза.
В темноте, прислушиваясь к звукам леса за дверью, он подождал, пока придет сон. Он пережил момент крайнего ужаса, когда услышал вой стаи волков где-то в отдалении, и подумал, что они могут учуять запах еды, прийти и окружить дом кольцом худых, безразличных морд и горящих желтых глаз.
Но потом волки замолкли, и Джон уснул.
Когда он проснулся, шел дождь.
Джон отложил накидку в сторону и поставил котелок нагреваться рядом с огнем. Он помешал кашу, но когда начал есть, обнаружил, что совсем нет аппетита. От голода он перешел к безразличию. Он знал, что должен поесть. Но серая каша, перемешанная с остатками золы, была во рту абсолютно безвкусной. Он заставил себя проглотить пять ложек, потом снова поставил котелок на огонь, чтобы каша оставалась теплой. Если он не обнаружит в ловушке рыбу и не сможет подстрелить кого-то, тогда на обед снова будет каша.
Дров рядом с очагом оставалось немного. Джон вышел наружу. Поленница тоже была низкой и сырой от дождя. Джон, чтобы подсушить, перетаскал в дом почти все дрова. Он попытался взять топор, чтобы пойти и нарубить еще дров, но боль в обожженной руке заставила его вскрикнуть. Он не мог пользоваться топором, пока не заживет рука. Придется ему собирать хворост, ломать ветки, которые сможет. Или жечь длинные сучья от одного конца к другому, подпихивая их к середине пламени по мере сгорания.
Оставив накидку сушиться, он, склонив голову, вышел наружу, в дождь, одетый только в домотканую куртку. Несколько дней тому назад, когда он выходил с ружьем поохотиться, он видел упавшее дерево, похожее на дуб. Туда он и потащился.
Добравшись до дерева, он увидел, что несколько веток действительно отломились от основного ствола. Вот такую древесину он и мог собрать. Пользуясь только левой рукой, он оттащил ветку от поваленного дерева и зажал ее под мышкой. Дотащить ее до дома оказалось нелегкой задачей. Она цеплялась за кусты, стукалась о деревья, путалась в лианах. Снова и снова Джону приходилось останавливаться, возвращаться и высвобождать ее. Лес на участке Джона был густой, почти непроходимый. Все утро ушло на то, чтобы пройти с будущими дровами милю до дома, и еще час на то, чтобы разломать добычу на поленья для очага, и только после этого он занес их в дом сушиться.
Он промок до костей и под дождем, и от пота. Все тело ныло от усталости. Ожог на руке сочился какой-то жидкостью. Джон смотрел на ожог со страхом. Если рана загноится, придется добираться до Джеймстауна и там довериться какому-нибудь цирюльнику-хирургу.
Джон боялся потерять руку, боялся путешествия до Джеймстауна в долбленом каноэ, всего с одной рукой, но точно так же он боялся оставаться один, если вдруг заболеет. Он слизнул капли пота с верхней губы и узнал запах собственного страха.
Джон повернулся к огню, решив думать о чем-нибудь другом. Огонь горел хорошо, и в комнате было тепло. Джон посмотрел наружу через открытое окно и щели в стенах. Лес, казалось, придвинулся чуточку ближе, продвинулся вперед за пеленой дождя, чуть теснее окружил одинокий домик.