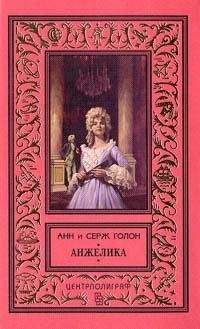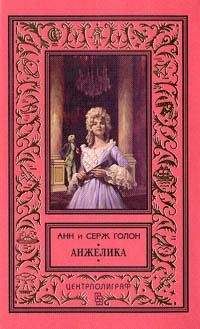Франсуа Деко - Приданое для Анжелики
Все действительно пошло по-другому. Сперва конвент решил гильотинировать спекулянтов, теперь сделал преступлением сам факт накопления. Крестьяне, исказившие сведения о размере собранного урожая, получали десять лет каторги. Торговцы, отказавшиеся продать свои товары за ассигнации или выразившие сомнения в их весомости, отправлялись туда на двадцать лет.
Граждан, пытавшихся сохранить сбережения в банках врага, а это практически вся Европа, карали как предателей. Началась перепись населения. Прошли аресты иностранцев, не вовремя въехавших во Францию. Конечно, были закрыты все университеты и академии. Армия нуждалась в солдатах. Впрочем, война против всей Европы уже стала главной идеей Франции. Декрет конвента от 23 августа ясно показывал, как должна вести себя страна.
«С настоящего момента и до тех пор, пока враги не будут изгнаны за пределы территории республики, все французы объявляются в состоянии постоянной реквизиции. Молодые люди пойдут сражаться на фронт, женатые должны ковать оружие и подвозить продовольствие; женщины будут готовить палатки, одежду и служить в госпиталях; дети — щипать корпию из старого белья; старики заставят выводить себя на площади, чтобы возбуждать в воинах храбрость, ненависть к королям и мысль о единстве республики».
В те провинции, где хоть что-то шло не по декрету, направлялись особые отряды революционной армии с артиллерией, хорошо оплачиваемыми членами трибунала и передвижной гильотиной. Только так и можно было обеспечить скупку зерна у крестьян по назначенной сверху цене и воодушевить бедноту на подвиг во имя освобождения Европы от тирании.
Война вплотную подошла и к французским колониям. Едва англичане приняли решение высадиться на Гаити, Аббат признал, что поджигать дом, оставляемый врагу, все-таки придется, и отдал приказ объявить всех черных рабов свободными.
Судя по тому, что никаких сводок с тех пор не поступало, на Гаити как раз в этот момент черные резали белых. Они все поняли просто. Равенство — это прежде всего право равно ответить на обиду. Теперь сахар острова Гаити, а это сорок процентов мирового рынка, был на долгие годы недоступен ни англичанам, ни кому-то другому.
И все-таки главным событием стало обвинение королевы Марии-Антуанетты. В отличие от мужа, она не подписывала никаких опасных бумаг, вообще была единственной политической фигурой в нынешней Франции, не виновной ни в чем. Это делало ее символом надежды на какое-то иное будущее.
— А надежды быть не должно, — пробормотал Аббат и пододвинул папку со свежими сводками.
Его жернова уже перемололи почти все французские капиталы в нечто более или менее однородное и управляемое. В муку!
Мария-Анна приняла решение, как только избавилась от последних иллюзий. Она сама, лично записывала каждую мысль мужа и аккуратно подшивала все это в папки все двадцать два года жизни под одной крышей. Поэтому, едва осознав, что спасения не будет, Мария-Анна просто сняла со стеллажа увесистую папку с рецептами пороха, завернула ее в промасленную бумагу и закопала в роще за городом. Эти записки вернее всего могли помочь Элевтеру создать свое дело где-нибудь в Америке.
Уже через неделю отец забеспокоился и забрал у нее акции Ост-Индской компании. По его обескураженному виду Мария-Анна поняла: папа впервые в жизни осознает, что в чем-то был неправ.
Еще через пару дней в Париже стали поговаривать, что британцы начисто отрезали Францию от запасов индийской селитры, а значит, пороха для войны вот-вот не станет. 24 августа вышел декрет, ликвидирующий все корпорации. Ост-Индская компания, много лет поставлявшая во Францию селитру, была обречена.
— Они думают, что могут вот так запросто вышвырнуть старого Жака Польза на помойку! — зло прошипел отец. — Что ж, давайте подождем пару-тройку недель, посмотрим, кто кому нужнее.
Он все еще пытался тягаться с республикой.
Что ж, какие-то козыри у этого игрока еще оставались. Едва вышло постановление о ликвидации корпораций и компаний, прекратились все поставки селитры, не только из Индии. Но конвент и не подумал падать на колени и просить у Жака Польза прощения. «Бешеные» просто обязали всю страну соскребать кристаллы селитры со стен амбаров и выгребных ям.
Пока результат был неутешительным. При заявленной годовой потребности в двадцать пять миллионов фунтов арсенал рассчитывал иметь от силы два с половиной. Это означало, что пороха будет в десять раз меньше, чем требовалось. Европа вроде бы получала шанс не стать частью великой Франции.
Понятно, что «бешеные», для которых пути назад не было, в считаные дни развернули организацию революционных школ по добыче селитры. Они умели стоять на своем.
10 сентября 1793 года в квартиру Лавуазье пришли с обыском. Он вроде как был связан с решением опечатать все конторы бывшего генерального откупа, но незваные гости искали совсем другие бумаги. Двоих из них — химика Антуана Фуркруа и комиссара Гильберта Ромма, курирующего артиллерию республики, — Мария-Анна знала в лицо.
— А где лежат бумаги, касающиеся рецептов пороха? — после четырех часов безуспешных поисков прямо спросил Фуркруа.
Антуан бросил на Марию-Анну испытующий взгляд, усмехнулся и ответил:
— Гражданин Фуркруа, все рецепты я оставил в арсенале. Сходите и возьмите. Вам дадут.
Фуркруа покраснел. Роль вымогателя его явно стесняла.
— А где экспериментальные рецепты? Вы же понимаете, о чем я, не так ли? С разными видами селитры…
Антуан развел руками.
— Все в моей голове. Вы же лучший специалист по химии мозга, гражданин Фуркруа. Отделите мне голову, вскройте, и найдете все в целости и сохранности.
Тогда в разговор вмешался Гилберт Ромм:
— Будьте уверены, гражданин Лавуазье, за отделением головы дело не станет. Или вы думаете, что можете торговаться с республикой?
Антуан покачал головой.
— Нет, гражданин Ромм, не думаю. Поэтому и не питаю иллюзий на свой счет.
Комиссары еще немного потоптались, выискали и приобщили к делу пачку писем на английском языке, реквизировали все инструменты и рукописи, касающиеся создания метрической системы. Потом они обронили несколько новых угрожающих фраз и ретировались.
Антуан проводил их долгим взглядом, повернулся к жене и проговорил:
— В чем дело, Мария-Анна? С каких пор ты изымаешь мои бумаги без моего ведома?
Но она и не думала оправдываться, отводить глаза.
— Я не взяла ни одной бумаги, написанной твоей рукой, Антуан. Хочешь найти свои рабочие записи за последние двадцать два года, поищи их на тех салфетках, которыми ты промокал кислоту на столе и хватался за горячие щипцы.