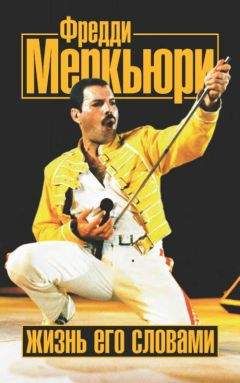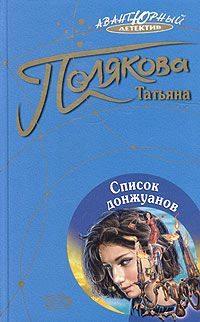Мария Кунцевич - Тристан 1946
Мы вернулись домой, я приготовила ужин, сложила простыни, Партизану постелила на полу шерстяную шаль, в комнате стало чище, мы легли спать, Михал поцеловал мне руку, я ему, мы уснули.
В студии все обошлось без скандала, меня все чаще приглашают на телевидение, Питер мной дорожит, сказал только: «Знаешь, возьми на недельку отпуск, ты чересчур похудела. «Пари матч» подождет, но в «Харперс базар» непременно нужно послать твой снимок «большое декольте», а у тебя чересчур выпирают кости». Я обрадовалась, думала, мы поедем в Хов, август, жарко, дала телеграмму в гостиницу, Михал отказался, зачем нам в Хов, у нас здесь свой Хов. Мы никуда не поехали.
Михал обучал Партизана всяким фокусам, я смотрела, мы смеялись, пес был еще очень слабый, но старался изо всех сил, получалось очень смешно. Михалу было сейчас не больше двенадцати лет, а мне от силы шесть, если бы нас увидел кто-нибудь со стороны, быть бы нам в заведении для дебилов; Партизану на хвост я повязывала бант, он вертелся волчком, щелкал зубами, неизвестно было, кого он больше любит, меня или Михала. Мы все вместе ложились на ковер, засыпали. А потом я просыпалась, потому что Михал на меня смотрел. Мы глядели друг на друга, как на две большие карты, по которым можно водить пальцем, путешествовать глазами. Я сказала: «Нет, Михал, не надо, это напоминает лабораторию, анализы». Он удивился: «Лабораторию, анализы?» Нам обоим стало не по себе, мы накинули халаты.
«Может, почитаешь?» Он раздобыл книжки по архитектуре, такие же, как те, что когда-то дал ему Брэдли, иногда соглашался, садился в кресло с книжкой, а Партизан рядом — одно ухо вверх, другое вниз — в ожидании… Михал все старался положить ему на нос карандаш, говорил: «Замри», ничего не получалось, архитектура побоку, мы смеялись. Партизан сидел, держа на носу карандаш.
Я готовила незнакомые блюда по французским рецептам, иногда получалось; я даже пригласила Молли, Станислава все еще не было, а Молли не понравилось, она все еще злилась из-за пса: Партизан потоптал настурции, набезобразничал в передней. Михал починил ей шкаф, она малость поутихла.
Пес стал поправляться, не хотел больше лежать на полу, на шали, прыгал на постель, прямо мне на живот, я боялась шевельнуться, Михал его сгонял, Партизан устраивался в ногах, мы разговаривали.
Никогда мы не болтали такой ерунды, как тогда, лежали рядом неподвижно, будто в гробу, и разговаривали обо всем, вспоминали детство. «Что ты больше всего любил, когда был маленький?» — «Окрошку». — «А что такое окрошка? Холодный суп с мясом?..» — «Холодный суп, сам не знаю из чего». — «Наверное, это madrilene?» — «И вовсе это не madrilene, а окрошка» — «Но что такое окрошка?» — «Окрошка — это окрошка».
Михала ужасно злило, что я не понимаю польских слов, он попросил меня спеть ирландскую песенку, я спела, и он спросил меня, что такое colleen, я сказала, что colleen — это значит girl, скажи по-польски, я сказала «зеввтчина», он рассердился, мы никогда не поймем друг друга, а потом: «Кася, скажи правду, ты меня совсем не понимаешь, ты такая чужая… — подпер голову локтем в своем гробу и смотрит на меня издалека, будто на мертвую… — ты ничего обо мне не знаешь, но это ничего…»
Я не люблю, когда он так вот проклинает свою судьбу. «Нет, знаю, — говорю, — знаю, как ты у мясника украл кусок сала и что ты мать свою обманываешь, все знаю, но какое мне до этого дело, ты мне все равно нравишься, мне никто так не нравится». Я думала, он оживет после этих слов, но он перевернулся на спину, уставился в потолок, я положила ему руку на глаза: «Драгги называл тебя Гордый поляк или Польский бандит, но мне и на это наплевать», он сбросил мою руку со лба, словно бы она была мертвая. «Я знаю, что тебе на все наплевать, если бы было не наплевать, ты бы знала, что меня в Баттерси кокни чуть было не прикончили, а ты не догадалась, поверила, будто я и правда гробанулся вместе с машиной на свалке».
Ну тут я не выдержала, а что ты-то обо мне знаешь? Ты догадывался, что я три месяца ходила с твоим ребенком?
Он сел, широко раскрыл глаза… «Кася, побойся Бога, что ты говоришь? Не может быть, это ты нарочно выдумала, назло… — протянул руку, дотронулся до моего живота, — тут был мой ребенок? Кася, почему ты ничего не сказала? Как ты могла?» — И сорвался с места.
Партизан проснулся, подбежал к дверям, пора было вывести его гулять, Михал долго не возвращался, а когда вернулся — вместе с ним в комнату ворвался холод, Михал топнул на пса ногой, сел у окна, я звала его: «Иди сюда, простудишься, ночь холодная», он не отозвался, я подошла, глажу его по голове, а у него волосы мокрые.
«Ложись, оставь меня». Я легла, глаза у меня сами закрывались, заснула.
Просыпаюсь, светло, шарю рукой по постели, вскакиваю, кричу: «Михал, Михал!» Под зеркалом клочок бумаги: «Вернусь вечером» и внизу нацарапано. «Прощай, Изольда!»
Партизана он оставил дома, ну, думаю, наверное, пошел искать работу, опустила шторы, у меня отпуск, легла и читала все, что под руку подвернется, не обедала, часов в шесть Михал вернулся.
— Где ты был?
— В парке.
— В каком парке?
— Там, где зарыт мой трофей.
— Говорила, не ходи туда, почему не взял с собой собаку?
— Хорошо сделал, что не взял. Партизан откопал бы трофей…
Тут я не выдержала, хватит с меня его фокусов, его собаки, моего затворничества, я с размаху швырнула книжку на пол: «Ты сам все время вытаскиваешь на свет божий свои воспоминания — окрошка тебе нужна, «зеввтчина», а мои песни, мои руки, моя стряпня, моя помощь тебе ни к чему, и ребенок мой тоже…»
Он молчал, а я все кричала: «Что я могу о тебе знать, если ты молчишь? Ты тоже обо мне ничего не знаешь, все какие-то бредни про Изольду…»
Он обернулся и пошел прямо на меня, словно смерть.
«Кася, — сказал он и стиснул мне пальцы. — Кася, неужели ты забыла, как мы с тобой хотели жить. Ты говоришь «бредни»… но мы не хотели быть как все, мы хотели знать друг про друга все, все без слов, быть друг для друга матерью, отцом, ребенком, вспомни мою мать, свою мать, своего отца, разве они нам нужны? Мы им нужны? Дети всегда чужие, с ними нельзя без слов, и они не могут без слов — а чего стоят слова? Я верю только тому, что чувствуют двое без слов».
Он, наверное, был не в себе, должно быть, сходил с ума. «Изольда, — сказал он мне. — Изольда… это тоже слова, ты и мне не верь, не верь словам, как тогда не верила лесбиянкам, как я тебе сейчас не верю, нас больше нет, теперь мы, как все».
Мне показалось, что я куда-то проваливаюсь: «Ты и меня тоже хочешь закопать вместе с воспоминаниями…»
Он обнял меня. «Жаль, — говорит, — жаль», мне стало страшно, я знала одно — надо защищаться, иначе все пойдет к черту, оттолкнула его: «Чего тебе жалко?» — кричу громко, во всю глотку. «Жизни жалко», — отвечает, окно зашторено, душно — кругом окурки, постели не застелены… «Но ведь мы еще молодые, — кричу я, — молодые! Рано тебе о жизни жалеть!» Я схватила бутылку с вином, налила ему и себе, выпьем за нашу длинную жизнь — это я сказала ему без слов, мы сидели, пили, он положил руку мне на колено: «Нужно помнить!» «Ты прав, дорогой, помнить нужно», — крикнула я ему. «Помнишь, как мы в первый раз пошли в кино, помнишь фильм, мы его не видели, потому что выросло огромное персиковое дерево и поглотило нас».