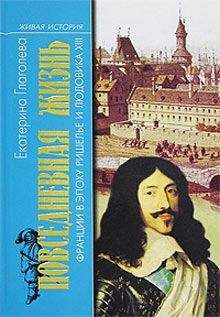Роксана Гедеон - Дни гнева, дни любви
Признаки того что меня вот-вот освободят, появились очень скоро. Началось с того, что жена тюремщика застелила мою постель приличным бельем, нагрела воды, чтобы я могла вымыться, и принесла мне кофе и булочки с маслом на завтрак. Потом меня даже спрашивали заранее, что я хочу видеть у себя на столе, и еду для меня покупали на рынке. Отпуск денег на мое содержание был явно увеличен. Отныне я могла дважды в день выходить на прогулку, и когда Маргарита привозила мне сына, я всегда с ним виделась.
Безусловно, изменения были вызваны действиями Клавьера. Он дал денег, привел в действие свои связи, и ко мне стали относиться по-другому. Его вмешательство приводило меня в бешенство, усиливаемое еще и тем, что я не могла отказаться от столь позорной помощи.
Он сдержал слово: в два часа пополудни 20 июля 1791 года дверь моей камеры отворилась. Тюремщик, по своему обыкновению, был суров и обеспокоенно морщил низкий лоб.
– Идите, дамочка, – сказал он мне, – кажется, нынче я вас в последний раз вижу.
– Меня выпускают?
– Похоже на это… гражданин заместитель прокурора приехал за вами.
– И куда же меня повезут?
– В мэрию.
Симпатичный гражданин заместитель прокурора, а иначе – уже известный мне Кайе де Жервилль, осуществлявший мой арест, ожидал меня в той самой глухой правительственной карете, но теперь встреча произошла без гвардейцев и сопровождалась любезными улыбками.
– Я знал, знал, что вы будете на свободе! – воскликнул он радостно, пожимая мне руку. – Сам гражданин мэр вызывает вас к себе, чтобы извиниться.
– Извиниться? – Я решительно высвободила пальцы. – А нельзя ли обойтись без этого?
– Ну что вы, гражданка… Сам гражданин Байи ожидает вас… Я обещал ему…
– Господин Байи не сделал мне ничего плохого, чтобы извиняться. К тому же я не отрицаю своей вины. Я действительно помогала королю бежать.
Он шумно вздохнул, когда я произносила эти слова, и сделал вид, что не расслышал их. Да, все они продажны, подумала я. И он, и сам Байи.
– Послушайте, вы же получили свое, – сказала я откровенно. – Зачем все эти церемонии? Отпустите меня без всяких разговоров.
– Вы так хотите? – спросил он улыбаясь.
– Да.
– Тогда давайте хоть за ворота выедем.
Глухая карета миновала кусочек улицы Паве и провезла меня по улице Королей Сицилии. Я приподняла занавеску: мы остановились напротив небольшой сапожной мастерской.
– Господин Кайе, вы можете сказать мне откровенно?
– Спрашивайте, – любезно предложил он.
– Сколько в целом Клавьер всем вам дал, чтобы устроить все это?
Посмеиваясь, Кайе посмотрел на меня.
– На оправдание такой красивой женщины гражданин банкир пожертвовал не меньше миллиона. Это по моим подсчетам.
– Миллион? И вы полагаете, что ваша услуга стоила подобной щедрости?
– Существовало много свидетелей и документов, гражданка. Следствие располагало неопровержимыми уликами против вас. Вы сами понимаете, как трудно было устранить все это.
Я поспешно распахнула дверцу кареты.
– Я могу идти, сударь?
– Да, – уже более твердым тоном сказал Кайе де Жервилль, – а гражданину мэру я передам, что вы нездоровы.
Зло усмехаясь, я соскочила на землю и зашагала по улице. Ох уж эти представители новой власти! Называют друг друга «гражданами», демонстрируя пресловутое равенство и братство, а сами берут взятки не хуже любого судейского при Старом порядке. Ах, поскорее бы забыть обо всем этом! Я хочу наконец вернуться домой…
Денег у меня не было, и я никак не могла уговорить извозчиков подвезти меня в кредит. Мне пришлось до самой площади Карусель идти пешком. Я шла, страшно чертыхаясь в душе.
Тихо было в доме. Ни звука не доносилось из комнат. Но я сразу, едва вошла, ощутила знакомые ароматы – запах меда, кофе и мускуса. Наконец-то… Силы едва не оставили меня. Я прислонилась к стене, переводя дыхание. Потом волнение отступило, я почувствовала, что прихожу в себя.
Я прошла в гостиную. Там был, как всегда, полумрак, и золотистые портьеры сдерживали поток солнечных лучей. Сначала мне показалось, что здесь никого нет. И только позже я заметила чью-то голову, возвышающуюся над спинкой стула. По копне жестких курчавых волос нетрудно было определить моего управляющего.
– Здравствуйте, сударь, – сказала я, медленно направляясь к нему и без сил опускаясь на диван.
После тюремной обстановки все, что окружало меня здесь, казалось домашним, уютным, необыкновенно милым. От волнения, снова накатившего на меня, я никак не могла развязать ленты шляпки.
– Здравствуйте, мадам.
Он отложил книгу и деликатно помог мне справиться со шляпкой.
– Мы так ждали вас, мадам.
Он объяснил мне, почему дом так пуст сейчас. Дети с Маргаритой были в церкви. Служанки отпущены по домам. В доме оставалась только Дениза, да и она была в саду.
– А адмирал? – спросила я, полагая, что мне давно следует оформить разрыв с этим человеком. – Где он живет? В гостинице?
– Нет, мадам, он эмигрировал. Он скрывается. Впрочем, они все теперь скрываются.
Я молча смотрела на Паулино, ничего не понимая. Кто скрывается? Зачем? Я на свободе, а адмирал скрывается?
– Расскажите мне. Я ничего не знаю, Паулино.
– Не знаете о расстреле на Марсовом поле?
Я отрицательно качнула головой. В самом деле, я же не на прогулке была, а в тюрьме.
– Три дня назад на Марсовом поле собрались республиканцы, чтобы подписать петицию о низложении короля. Мэр Парижа собрал войска и, зацепившись за какой-то пьяный дебош, как за предлог, приказал стрелять. Убито около двух тысяч санкюлотов.
– А адмирал? Он тоже был там?
– Нет. Но он помогал составлять текст петиции. Их всех теперь хватают. Якобинцы бегут кто куда: в Англию, в провинцию, во всякие укромные углы. Не только адмирал исчез. Исчезли Дантон, Робеспьер, Марат, Демулен…
– Ох, довольно!
Я подозревала, что Франсуа бежал к своей матери, в Овернь, и при желании легко могла бы донести. Но я лишь молча выслушала рассказ Паулино, ничем не выдав своего к нему отношения. Да и что мне за дело до того, что в лагере революционеров начались распри, что они теперь стреляют друг в друга?
– Послушайте, Паулино… Валери уже рылась в моем сейфе?
Густые брови мулата сердито сдвинулись.
– Да, мадам. Она приходила сюда.
– И что же она забрала? Вернее, хоть что-то оставила?
– Оставила ваше первое обручальное кольцо, мадам, и серьги, которые подарила вам королева…
– Как, и то ожерелье, которое подарил мне Эмманюэль, она тоже взяла?
– Да.
Я сжала зубы. Итак, из той части фамильных драгоценностей, что передал мне отец, и тех, что перешли мне от рода д'Эненов, осталась одна чепуха. Кольцо, серьги – тьфу! Что значат они по сравнению с тем, что я имела?