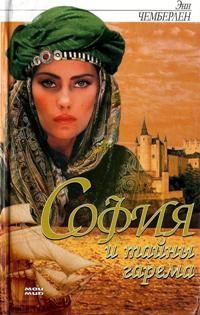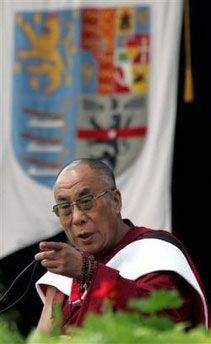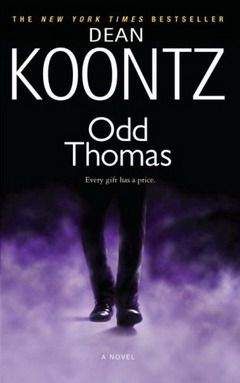Энн Чемберлен - София и тайны гарема
И тут только до меня дошло, что у всех наших матросов на Хиосе остались семьи. И сейчас они с безумным нетерпением ждали возвращения шлюпки, сгорая от желания поскорее оказаться на берегу, чтобы воссоединиться с родными и близкими. Один из них — самый молодой и сильный — стал поговаривать даже о том, чтобы прыгнуть за борт и вплавь отправиться к берегу. Честно говоря, не знаю, хватило бы у него мужества сделать это. Но зато одно я знал совершенно точно: без него все наши надежды укрыться где-нибудь от турецкой эскадры сведутся к нулю. И это даже в том случае, если мне удастся уговорить остальных послушаться меня, хотя по их глазам, в которых горело жадное нетерпение как можно скорее сойти на берег, я тут же догадался, что решить стоящую передо мной задачу будет нелегко.
При первых же признаках возмущения среди кучки оставшихся на борту матросов Эсмилькан собрала вокруг себя прислужниц и с их помощью поплотнее закуталась в свои покрывала. Пока она это делала, я только беспомощно метался по палубе, но потом, убедившись, что выхода у меня нет, направился к ней. Честно говоря, обнадежить ее мне было нечем. Я твердил себе, что лучше всего убедить Эсмилькан готовиться к самому худшему. Но стоило мне только увидеть, как храбро она держится, с каким доверием ее глаза встретили мой взгляд, и все мои намерения развеялись как дым. Стиснув зубы, я поклялся себе, что придумаю что-нибудь и сделаю все, чтобы избавить ее от опасности.
И, как ни странно, именно в эту минуту в голове у меня вдруг шевельнулась одна неясная идея. Вернее, если уж быть до конца честным, эту мысль, как ни странно, подсказали мне шальвары Эсмилькан. Случилось так, что, расхаживая в волнении по палубе, она коленом вдруг раздраженно откинула в стороны длинную полу мешавшего ей йелека. Он распахнулся, и взору моему представились широчайшие шальвары из ярко-алого шелка, собранные на талии. Одежды, которые носила Эсмилькан, были ей велики, поскольку все эти годы она почти все время была беременной. В том числе и эти алые шаровары, в которых без труда поместилась бы не одна, а даже две или три Эсмилькан. Я смотрел на ярды плотной ткани, свободно свисавшие с ее бедер, и в душе моей вдруг вспыхнула безумная надежда.
Опустившись возле госпожи на колени, я осторожно схватил ее за лодыжку — то ли от возбуждения, овладевшего мною в тот момент, а может, просто для того, чтобы иметь возможность ощупать и хорошенько разглядеть ткань шальвар. Конечно, ткань была изумительно хороша, и уж кому, как не мне, было знать об этом. А может, все дело в том, что мне сейчас очень нужна была помощь моей госпожи и я готов был умолять, чтобы она мне не отказала.
— Госпожа, — придушенным от волнения голосом взмолился я, — не согласитесь ли вы пожертвовать своими шальварами?
— Моими шальварами?!
— Да. И еще мне нужно что-то белое из ваших вещей — не важно, что. Бегите вниз, отыщите иголку и сделайте нам флаг. Сделайте это, чтобы весь мир мог убедиться, какой вы веры.
И тут произошло невероятное — то, чего не удалось добиться даже под угрозой приближавшегося на всех парусах турецкого флота, сделала вера. Вернее, Рамадан. Что может считаться более благочестивым, да еще во время праздника Рамадана, чем возможность во имя своей веры сшить свой флаг, — так, наверное, решила Эсмилькан. А может — и мне было сладостно тешить себя этой безумной надеждой, — именно легкое прикосновение моих пальцев, которыми я по-прежнему сжимал ее лодыжку, заставило Эсмилькан передумать?
Как бы там ни было, не успел я еще сделать и пару шагов, как услышал за своей спиной громкий треск распарываемого шелка. У меня невольно защемило сердце — этот звук воскресил в моей душе воспоминания о набегах и грабежах. Поэтому я поспешил отойти подальше, чтобы заняться другими делами. Но теперь по крайней мере у меня оставалась надежда, что к тому времени, как мы поднимем якорь и выйдем в море, на мачте у нас будет гордо реять турецкий флаг.
Вся эта сцена невольно заставила меня подумать о другом — остается только благодарить свою счастливую звезду, подумал я про себя, что в подобных обстоятельствах мне посчастливилось иметь дело с Эсмилькан. Можно было только гадать, как поступила бы на ее месте София Баффо. Мне вдруг вспомнились неуклюжие попытки той, которую турки прозвали Прекраснейшей, сшить своими руками рубашку для нашего раба Пьеро. — Это случилось еще в то далекое время, когда у меня самого были рабы. Правда, обстоятельства, в которых мы тогда оказались, до смешного напоминали нынешние. Или, вернее, дочь Баффо постаралась сгустить краски, чтобы угрожавшая нам тогда опасность казалась намного более грозной, чем это было на самом деле — естественно, когда все было уже позади.
А вот Эсмилькан оказалась совсем другой. Мысль о моей госпоже согревала мне сердце, как заходящее солнце, ласкавшее своими лучами утесы и гранитные скалы Хиоса. Не обращая ни на что внимания, она со своими помощницами проворно работала иголкой, не прерываясь ни на минуту, и очень скоро взору моему представился ослепительно белый полумесяц и звезда из алого шелка — кажется, никогда еще раньше я не радовался им так, как в эту минуту. Возможно, теперь опасность, что нас станут обстреливать из пушек, станет поменьше. Быстро темнело, поэтому, взяв висевшую на цепи лампу, я прикрепил ее на крышу.
Женщины перестали шить, сделав перерыв на вечернюю молитву, означавшую, что пост до утра закончен, и с жадностью накинулись на матросские сухари, поливая их остатками мутного оливкового масла, которого еще оставалось немного на дне бочки, и запивая все это затхлой пресной водой. Но мы ничего не замечали. Тошнотворный вкус и омерзительный запах того, что мы поглощали, был пустяком по сравнению с обещанными нам Джустиниани разнообразными деликатесами, которые, по его словам, ожидали нас на берегу. А запах лимонных деревьев в цвету, доносившийся с берега, казался нам райским благоуханием. Да и к тому же Эсмилькан никогда бы не позволила ни одной из служанок пожаловаться — не успели женщины и вполовину набить себе живот, как она строгим тоном велела им возвращаться к работе.
Громкий крик «эгей» и знакомая манера проглатывать гласные возвестили о появлении Джустиниани. Матросы бросили ему с борта веревку, и очень скоро он и еще то ли шестеро, то ли семеро матросов — во всяком случае, их было более чем достаточно, чтобы поднять якорь, — присоединились к нам на борту «Эпифании».
— Ну, какие новости?
— Это действительно Пиали-паша со своей эскадрой?
— Да помогут нам все святые! Как прошли переговоры?
— А наши жены и дети — как они?
Вопросы, градом сыпавшиеся со всех сторон, остались без ответа. Джустиниани, едва перебросив ногу через борт, спросил: