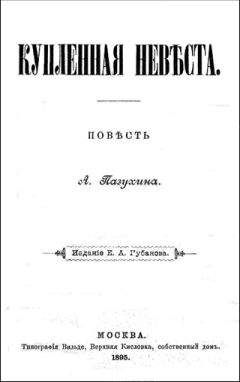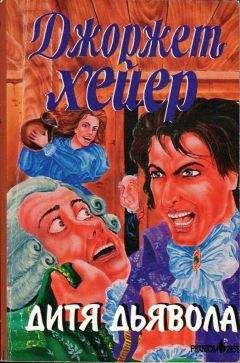Алексей Пазухин - КУПЛЕННАЯ НЕВѢСТА (дореволюционная орфоргафия)
Въ описываемый вечеръ, въ самой срединѣ Тучковскаго лѣса, въ давно покинутой лѣсной сторожкѣ собралось человѣкъ семнадцать какихъ-то мужиковъ. Полуразрушенная печка сторожки топилась и наполняла низенькую съ бревенчатыми стѣнами избу густымъ дымомъ, не смотря на то, что дверь была отворена, и свѣжій апрѣльскій вѣтеръ свободно гулялъ по всей сторожкѣ. Мужики сидѣли на земляномъ полу, лежали на лавкахъ, на полатяхъ; двое забрались на печь. Все это были не старые еще люди, одѣтые въ нагольные[22] полушубки, въ сермяжные[23] армяки[24] и кафтаны[25], въ изношенные лапти. Одинъ былъ въ солдатской шинели, и гладко выстриженная голова его, и бритая борода обличали въ немъ солдата. Былъ одинъ одѣтымъ и не помужицки, а въ сѣромъ казакинѣ[26] съ голубыми прошвами, въ синихъ шароварахъ съ лампасами, какъ одѣвались тогда дворовые люди богатыхъ помѣщиковъ. Нѣкоторые курили трубки, другіе спали, третьи пѣли или разговаривали; двое варили въ печкѣ кашицу, и аппетитный паръ ея смѣшивался съ дымомъ и наполнялъ избу. За кушаками у всѣхъ почти торчали топоры; у нѣкоторыхъ висѣли ножи, а въ углу стояли три охотничьихъ ружья.
— Кашица, братцы, готова, — весело объявилъ одинъ изъ кашеваровъ. — Эхъ, хорошая кашица! Крупъ мы положили съ Яшкой много, четырехъ тетерекъ ввалили, солью приправили, ѣшь — не хочу!
— А чѣмъ ѣсть то? — спросилъ одинъ. — На всю артель двѣ ложки.
— По двое и будемъ ѣсть, — отозвался кашеваръ. — Ты благодари Бога, что хлѣбъ есть, соль, а ложка — пустое дѣло.
— Такъ то такъ, а все пріятнѣе бы артелью жрать.
— Будемъ и артелью. Вотъ дядя Игнатъ придетъ изъ села, такъ и ложекъ принесетъ, и вина, и всего такого.
— А когда онъ придетъ?
— Надо полагать, что къ ночи будетъ. Я ему съ ребятами да съ атаманшей кашицы заварю, похлебать съ дороги то.
— И то съ „атаманшей“! — засмѣялся одинъ изъ лежащихъ на печи. — Какъ есть, атаманша.
— А что ты думаешь? Атаманша и то. Ходитъ это гоголемъ, шапку на ухо сдвинула, кистенемъ помахиваетъ...
— Ха, ха, ха! — засмѣялись кругомъ. — Жаль, что руки изъ рѣпы кроены[27], да въ поясѣ пальцами обхватить можно, а то богатырь какъ есть!
— Богатырь и то. Какъ пошли это мы изъ покоевъ у Чубарова то барина, а она подошла къ барину, подставила ему къ носу пистолетъ, да и говоритъ: „Будешь опять народъ обижать, такъ снова придемъ и на воротахъ тебя повѣсимъ; помни, что это тебѣ атаманъ-дѣвица Наташа сказала“.
— Ха, ха, ха! — загремѣлъ кругомъ дружный хохотъ.
— Хорошая дѣвка, жаль только, что не дюжо матера, хлибка больно, — раздалось замѣчаніе, когда смѣхъ утихъ.
— Погоди, раздобрѣетъ.
— Нагуляетъ тѣла для палача, будетъ по чему кнутомъ поработать! — мрачно замѣтилъ солдатъ.
Напоминаніе о палачѣ произвело непріятное впечатлѣніе. Нѣкоторые вздохнули, другiе молча свѣсили головы на груди.
— Ступай самъ къ нему въ лапы! — крикнулъ солдату черноволосый кудрявый парень. — Ишь, онъ съ ума у тебя не идетъ, любъ больно. Али боишься очинно?
— Угощеніе не сладкое.
— А не сладкое, такъ и не шелъ бы за нимъ. Люби кататься, люби и саночки возить, вотъ что. До палача еще далеко авось, а пока мы погуляемъ на свободѣ, потѣшимъ душеньку свою. Эй, вы, кашевары, выбирай, что-ли, очередныхъ, да корми, а остальные пока хлѣбушка пожуютъ. Эхъ, братцы, „хлѣба край, такъ и подъ елью рай“, а у насъ еще и избушка своя, какъ есть помѣщики!
Всѣ засмѣялись и окружили котелъ съ дымящеюся горячею кашицей.
XXII.
Въ свѣтлой, ярко освѣщенной свѣчами въ канделябрахъ и подсвѣчникахъ, столовой Скосыревскаго деревенскаго дома собралось довольно порядочное общество за вечернимъ чаемъ. Большой серебряный самоваръ привѣтливо пыхтѣлъ и шумѣлъ, пуская струи пара; ярко и весело сверкалъ хрусталь на столѣ, покрытомъ ослѣпительно бѣлою скатертью, дымились ароматнымъ паромъ чашки; затопленный каминъ пылалъ яркимъ пламенемъ, распространяя тепло по громадной комнатѣ, не лишнее въ пасмурный и холодный вечеръ ненастнаго апрѣля. На дворѣ завывалъ вѣтеръ, дождь, пополамъ со снѣгомъ, хлесталъ въ окна, голыя еще деревья въ саду уныло шумѣли и словно грозили кому то пучками своихъ гибкихъ вѣтвей, похожихъ на розги. Но непогоды не замѣчалъ никто въ свѣтлой теплой комнатѣ, наполненной ароматомъ дорогихъ куреній и духовъ. Всѣ кушали чай съ превосходными сливками, съ печеньями, съ вареньемъ или съ ароматнымъ ромомъ, смотря по привычкѣ и наклонностямъ, и весело разговаривали.
Чай разливала недавно взятая для Катерины Андреевны компаньонка, бойкая, рѣчистая француженка, не первой молодости и некрасивая, — Катерина Андреевна не хотѣла брать хорошенькую, зная эротическія наклонности Павла Борисовича. Рядомъ съ француженкою сидѣлъ сосѣдъ-помѣщикъ Батулинъ, крашеный господинъ лѣтъ пятидесяти пяти, вольтеріанецъ[28], большой поклонникъ женщинъ, а особенно француженокъ, и деспотъ до жестокости съ домашними и крѣпостными. Онъ любезничалъ съ mademoiselle Элизой и ухаживалъ за нею, не забывая ухаживать и за Катериной Андреевной.
Катерина Андреевна, въ узкомъ черномъ бархатномъ платьѣ съ высокимъ лифомъ и глубокимъ вырѣзомъ, позволяющимъ видѣть большую часть груди и спины, съ высокою прической, перевитою нитками жемчуга, сидѣла на низенькомъ креслѣ, уютно углубясь въ мягкую спинку его, и кушала конфекты, запивая чаемъ. Черемисовъ въ свѣтло-коричневомъ фракѣ, въ высокомъ жабо и въ сапогахъ съ кисточками, сидѣлъ рядомъ съ нею и разсѣянно слушалъ ея веселыя игривыя рѣчи, пощипывая усы и закусывая ихъ по старинной привычкѣ. По другую сторону стола сидѣли еще два сосѣда, молчаливые и застѣнчивые помѣщики, чувствующiе себя чужими въ этомъ обществѣ, а рядомъ съ ними Скосыревъ, свѣже выбритый, надушенный, одѣтый щеголемъ. Онъ влюбленными глазами смотрѣлъ на Катерину Андреевну и посылалъ ей воздушный поцѣлуй, когда она взглядывала на него и когда гости не замѣчали этого. Любовь Павла Борисовича дошла до кульминаціонной точки, и онъ никогда еще не былъ такъ влюбленъ въ Катерину Андреевну, какъ теперь, а она никогда еще такъ не кокетничала и такъ далеко не держала себя съ нимъ.
— Милый, я твоя невѣста, только невѣста,— говорила она, когда онъ хотѣлъ ласкать ее. — Я боюсь наскучить тебѣ до нашей свадьбы и потому не хочу, чтобы ты ласкалъ меня теперь. Скоро я буду твоею женой и тогда я твоя, но теперь не ласкай, не цѣлуй меня, — это меня обижаетъ: я не хочу быть и слыть твоею любовницей.
А между тѣмъ она кокетничала съ нимъ, какъ никогда, одѣвалась въ его любимыя платья, чесала волосы именно такъ, какъ онъ любилъ, пѣла за клавикордами его любимые романсы и пѣсни.