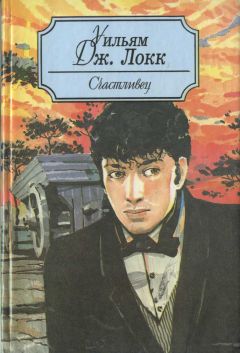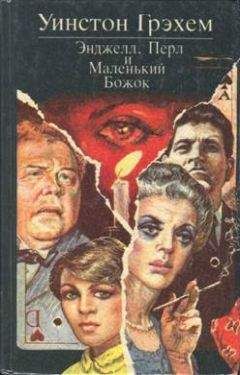Уильям Локк - Триумф Клементины
— Хэлло! Уже обратно?
— Я пришел просить у вас одолжения, Клементина, — сказал он. — Вас не затруднит выйти со мно… доставить мне удовольствие вашим обществом…
— Это меня нисколько не затруднит, — возразила Клементина. — Но для чего, объясните, я вам понадобилась?
— Я вам скажу, если вы не будете надо мной смеяться.
— Я смеюсь над вами, как вы говорите, когда вы действуете по-идиотски. Сейчас же ни в каком случае. В чем дело?
Он колебался. Она заметила, что ее резкость смутила его. Она решила исправить ошибку и положила свою руку на рукав ему.
— Мы постараемся быть друзьями, Ефраим, хотя бы ради ребенка. Говорите…
— Дело только в том, что я никогда не чувствовал себя таким отчаянно одиноким, как сейчас на этой людной улице.
— И вы вернулись за мной?
— И я вернулся за вами, — улыбнулся он.
— Пойдем, — решила она, беря его под руку, и они пошли таким образом, как сотни других пар по улицам Марселя.
— Так лучше? — с шутливой лаской осведомилась она, полная жалости к этому чувствительному, непонятому человеку.
Необычный для нее тон глубоко тронул его.
— Я никогда не предполагал, что вы можете быть такой милой, Клементина. И вчера утром мне очень нездоровилось и, хотя я все смутно помню, но я чувствую, что вы были очень добры ко мне.
— Я не всегда бываю носорогом, — возразила Клементина, — но что же особенно хорошее я сделала сейчас?
— Вот это, — прижал он к себе ее руку.
Клементина осознавала, что мелочи имеют гораздо больше значения, чем великие дела. Они прошлись вдоль набережной, полюбовались на мрачный, залитый луной Замок Иф, повернули по Римской улице и вышли опять на Каннбьер. Тут их прельстил только что освободившийся в углу террасы кафе столик. Они заняли его и заказали кофе. Маленькая сентиментальная прогулка под руку значительно расположила их друг к другу. Квистус был благодарен за ее грубоватую, хотя и смягчающуюся симпатию, Клементина, в свою очередь, более правильно оценила его. Впервые с приездом в Марсель они говорили на общие темы и впервые говорили не раздражаясь. До сих пор она не выносила его педантизма, он — ее насмешек. Она выходила из себя от его квиэтизма, он нервничал от ее грубости. Теперь отношения выяснились. Она решила оставить насмешки при себе, Квистус — влезать на своего конька только в случаях самозащиты. Они разговаривали о музыке, так как в кафе оказался оркестр. Их вкусы сошлись на Бахе. Мало-помалу разговор перешел на современную оперу. Квистус подметил в «Гансе-игроке» какой-то повторяющийся мотив.
— Этот, — напевая его, закричала Клементина. — Вы единственный англичанин, который это заметил.
Они переменили тему и заговорили о путешествиях. Ее странствование по Франции было еще свежо в ее памяти. Как художник, она восхищалась ее архитектурой. Оказалось, что Квистус был знаком со всеми местами, где она останавливалась. К ее большому удивлению, он во многом сходился с ней по вкусам.
— Бесценнейшие сокровища Франции, — сказал он, — в остатках умирающей готики и раннего Ренессанса. Образцом являются всем известный Дворец правосудия в Руане и западный фасад собора в Вандоме.
— Но я же была в Вандоме! — воскликнула Клементина. — Дивное стрельчатое окно, все в пламени.
— Последнее слово готики, — сказал Квистус, — погребальный костер готики — пламя. Вандом всегда казался мне концом эпохи викингов. Они погребали героев на пылающем в море корабле.
Даже «Ришелье», построенный великим кардиналом для своего отдыха, был знаком Квистусу.
— Но это поразительно, — кричала Клементина, — а я думала, что мы его открыли.
Он засмеялся.
— Я был такого же мнения. И мне думается, что каждый, кто там побывает, считает себя маленьким Колумбом.
— Что вам там больше всего нравится?
— Старина, кавалькады свиты Ришелье в костюмах Людовика XIII… шум оружия проезжающих воинов… Там легко писать на старинные сюжеты.
— Томми это сделал, — добавила Клементина, — он сделал великолепный эскиз кардинала, входящего в свою карету, окруженную телохранителями.
Это перевело их разговор на картины. Оказалось, что он был знаком со всеми галереями Европы, и с большинством современных произведений. Она и не подозревала, что он имеет такие познания в искусстве. Он ненавидел то, что он называл «кошмаром техники» ультрасовременной школы.
Клементина придерживалась того же мнения.
— Все великие произведения отличаются простотой. Поставьте пейзаж Хоббема и св. Михаила Рафаэля рядом с истерическими произведениями салона независимых и вы увидите, что стены закричат от этого хаоса.
— Это напоминает мне, — продолжал он, — небольшой эпизод на первой международной художественной выставке в Лондоне. Париж, Бельгия и Голландия выставили свои ужасы, к которым многие были непривычны. Там были женщины с оранжевыми лицами и зелеными волосами, сидящие в пурпуровых кафе; отвратительные ню, с вырисованными мускулами; портреты до того плоские, что они казались прикрепленными булавками к стене насекомыми. Я помню, что ровно ничего из этого не понял. А в середине же всего этого лихорадочного бреда висел маленький шедевр, такой законченный, простой, здоровый и в то же время полный выражения, что я остановился перед ним и стоял до тех пор, пока мне не стало лучше; затем я отправился домой. Это было удивительное ощущение прикосновения холодной руки во время горячечного бреда. У меня не было каталога, так что я до сих пор не знаю имени автора.
— Какой сюжет этой картины? — осведомилась Клементина.
— Ребенок в белом платье с голубым поясом, и даже не особенно хорошенький ребенок. Но это было восхитительное произведение.
— Не помните ли вы, — спросила она, — слева от девочки на маленьком столике перламутрового ларчика?
— Да, — вспомнил Квистус, — был такой… Вы знаете эту картину?
Клементина улыбнулась. Она так улыбнулась, что стали видны ее белые здоровые зубы. Квистус никогда не видел зубов Клементины.
— Я ее написала, — вытянув обе руки, торжественно сказала она.
Одна из ее рук наткнулась на стакан с кофе и опрокинула его. Квистус инстинктивно отскочил вместе со стулом, но большая струя кофе залила его жилет.
Торжествующая, благодарная и тронутая Клементина, не дожидаясь лакея с салфеткой, схватила свои перчатки и насухо вытерла его ими.
— Ваши перчатки! Ваши перчатки! — протестовал он.
Она, смеясь, выбросила их на улицу, где они сейчас же были подняты проходящим мальчишкой, потому что во Франции ничего не пропадает.
— Я бы вытерла вас чем угодно, за то, что вы вспомнили мою картину.