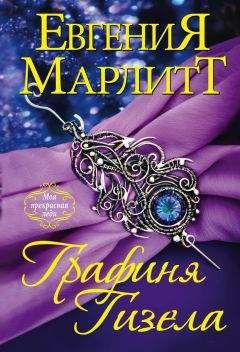Евгения Марлитт - Наследница. Графиня Гизела
— Я должна вам кое-что сказать, любезный мастер, — обратилась она к мужчине, который, провожая ее, остановился у дверей. — Там я не хотела… Слов нет, капли мои хороши, и против чая из бузины я тоже ничего не имею, но не мешало бы старой Розе провести сегодняшнюю ночь у больного. Да, кстати, нет ли поблизости кого из горнорабочих, чтобы в случае чего послать за доктором?
На лице мужчины появилось выражение испуга.
— Не отчаивайтесь, будьте мужественны, любезный друг, не все в этой жизни идет как по маслу, — ободрила его пасторша. — Да и доктор, в самом деле, не оборотень же какой, с которым стоит лишь связаться, как жди беды… Я бы охотно побыла у вас еще, потому что вы, как видно, не из храбрецов у постели больного. Но мои маленькие птенчики там, дома, верно, уже проголодались, а ключи от кладовой со мной, и одного картофеля, что у Розамунды, будет недостаточно… Ну, с Богом! Давайте капли, как я сказала, а завтра утром я опять приду.
Она пошла прочь. Ветер раздувал ее одежду; дрожащий свет фонаря, мелькая, то скользил по ветвям деревьев, то полз по дороге. Но вьюга могла сколь угодно реветь и бушевать: женщина мало обращала на это внимания, поступь ее оставалась мерной и твердой.
Горный мастер еще стоял у дверей; взор его следил за удаляющимся огоньком, пока тот не скрылся из виду. Между тем вьюга несколько стихла, непогода как бы задержала свое бурное дыхание. Издали стал слышен шум падающей с плотины воды, с завода раздавался гул. Послышались приближающиеся шаги, и вскоре из-за угла дома показалась мужская фигура. Солдатская шинель болталась на худых плечах, военная фуражка удерживалась платком, подвязанным под подбородком; в руке подошедшего был большой фонарь.
— Что вы тут стоите? — воскликнул он, когда свет от фонаря упал на лицо стоявшего на крыльце мужчины. — Студента еще нет и вы поджидаете его, так?
— Нет, Бертольд уже здесь, но он болен, что очень беспокоит меня, — ответил горный мастер. — Входите, Зиверт.
Комната, в которую они оба вошли, была большой, но с низким потолком. Стены, оклеенные светлыми обоями, были увешаны фамильными портретами. Ситцевые, с крупным узором оконные занавески, заботливо опущенные и сколотые вместе посредине, скрывали вьюгу, свирепствующую снаружи, и только чуть колыхались, приводимые в движение проникающим через оконные щели ветром. В каждом жилище в Тюрингенском лесу, придавая ему уютный и домашний вид, была изразцовая печь, которая нередко топилась даже среди лета.
Исполинской массой высилась она в этой комнате, распространяя приятное тепло.
Вид старомодной комнаты невольно пробуждал чувство уюта и покоя. Впечатление несколько портил неприятный запах чая из бузины. Наскоро устроенная из зеленой бумаги ширмочка заслоняла свет лампы; маятник деревянных настенных часов был остановлен — все указывало на заботливую руку и свидетельствовало, что мир и спокойствие нарушены болезнью.
Предмет этого заботливого ухода, казалось, всячески сопротивлялся навязанной ему роли больного. На импровизированной постели, устроенной на софе, лежал юноша, голова которого металась на белых подушках; теплое одеяло сползло на пол, а строптивый пациент в ту минуту, когда горный мастер с гостем входили в комнату, с отвращением отталкивал от себя чашку с отваром бузины.
Неприкрытый с одной стороны свет лампы позволял лучше рассмотреть горного мастера. Это был красивый мужчина внушительного вида. Казалось необъяснимым, каким образом мог он двигаться в этой низкой комнате, потолок которой почти касался его кудрявой головы. Странный контраст представляли собой светлые волосы и черные брови, которые срастались над переносицей и придавали лицу неожиданно меланхолическое выражение. По народному поверью, подобные лица несут на себе печать горестной участи, которая их ожидает в будущем.
Посторонний наблюдатель никоим образом не принял бы больного за кровного родственника этого высокого мужчины. Там — юношеское, бледное, алебастрового оттенка, худощавое лицо с римским профилем в обрамлении густых, черных как вороново крыло вьющихся волос, здесь — истый германский тип: мужчина с русой бородой, полный свежести и силы, стройный как пихта, его соотечественница, растущая в родных горах. Это разительное несходство во внешности не мешало, однако, братьям быть похожими во всем остальном.
Горный мастер быстро подошел к постели, приподнял свесившееся на пол одеяло и укутал больного по самые плечи, затем поднес к его губам отодвинутую чашку с питьем. Все это было проделано молча, но с выражением такой заботливой строгости, которой волей-неволей приходилось подчиняться. Пациент притих, покорно осушил до дна поднесенную чашку, потом в каком-то нежном и страстном порыве схватил руку брата и, проведя ею по своей щеке, опустил к себе на подушку. Тем временем человек в солдатской кавалерийской шинели подошел ближе.
— Ну, молодой человек, этаким-то образом вы изволите располагаться на постое? Стыдитесь, — прибавил он и поставил фонарь на стол.
Обращение это было шутливым, но необыкновенно грубый и резкий голос говорившего придавал ему тон крикливого наставления. Впечатление усиливалось суровым выражением лица под ярко-красным полушерстяным платком, повязанным вокруг головы и своим темным оттенком напоминавшим цыганский.
Больной приподнялся; краска разлилась по его бледному лицу, и взволнованный взгляд мрачно и вопросительно остановился на вошедшем, которого больной доселе не замечал. При этом рука его машинально потянулась к лежащей на столе студенческой фуражке со значком корпорации, к которой он принадлежал.
— Не беспокойся, Бертольд, — улыбнувшись этому движению, сказал мастер. — Это наш старый Зиверт.
— Э, да разве молодцу известно что о старом Зиверте? — отрезал человек в солдатской шинели. — Такой лихой парень, чай, позабыл уже, какова на вкус детская каша, не так ли, господин студент? А вот как раз на этом самом месте, где вы сейчас лежите, стояла когда-то люлька, а в ней барахтался крошечный мальчуган и криком звал свою умершую мать. И у отца, и у Розы, подступавших к нему с кашей, выбивалась из рук ложка. Уж не знаю, почему понравилось вам тогда мое лицо, и вот посла за послом стали командировать в замок, и Зиверт должен был приходить кормить молодца… А как малый был доволен тогда! Слезы еще катились по щекам, а каша уже благополучно отправлялась куда следовало.
Студент протянул через стол обе руки к говорившему. Упрямство, отражавшееся дотоль в его юношеских чертах, уступило место почти девичьей нежности.
— Мне нередко рассказывал об этом отец, — произнес он мягким голосом, — а с тех пор как Теобальд стал горным мастером в Нейнфельде, так и он часто писал мне о вас.