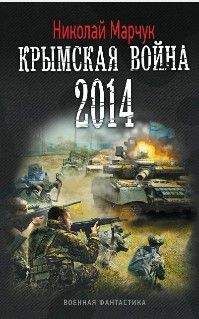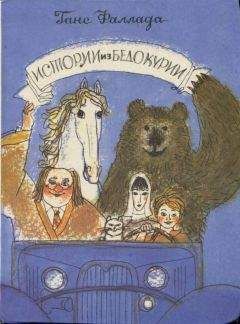Жан Марат - Похождения молодого графа Потовского (сердечный роман)
Я сильно не в духе относительно этих животных, русских, задавших вам такого гону. Я знаю твое доброе сердце; ты бы взял незнакомца с собою; но будь уверен, я отнял бы его у тебя: именно человека такого закала я желал бы иметь около себя.
Пинск, 9 октября 1770 г.
LXX.
Софья двоюродной сестре.
В Белу.
Я близка была к моменту, который должен был увенчать мои желание, я торжествовала. Отторгнутого от света, милой, самого себя, я видела его уже пленником, в моих сетях: я горела желанием видеть его у моих ног.
Во власти чарующего безумия я ожидала его, полная нетерпение в храме наслаждений.
Он входит, я зову его, он приближается; жду, что он устремится в мои объятия; глаза мои смыкаются от предвкушение наслаждения, но увы! Они открываются лишь для того, чтобы видеть, как он отказывается от моих объятий и смеется над пылом моей страсти.
Сколько средств было употреблено, чтобы отогреть это ледяное сердце! Сколько еще, чтобы его возбудить! Да, Розетта, все что когда-либо открыла самая утонченная требовательность в любовных делах, было пущено в ход: сладострастная живопись, тонкие вина, нежные запахи, шаловливые слова, позы, полные неги, нежные признания, страстные призывы, моление, слезы, — все, вплоть до зрелища моих прелестей, было применено.
Остается последнее средство. Я хочу его обнять, сжать в моих любовных объятиях и перелить в его грудь пламя, которым моя уже охвачена.
Он освобождается, бежит.
Вне себя от досады я предаюсь этому чувству и в порыве ярости сама открываю мою роковую тайну.
Негодующий, он уезжает, оставляя меня под тяжестью горя и стыда.
Ах, я не могу без смертельной муки подумать об этой унизительной сцене. Пока опьянение страстью помрачало мой ум, оно заботливо удаляло даже мысль о моем бесчестии. Теперь завеса пала.
Несчастная Софья! В какую, смотри, упала ты, бездну! Скоро они развернуть черную ткань твоей лживости. Они узнают, с каким остервенеем ты набрасывалась на покой их жизни. Скольких ты причиной вздохов, слез, жалоб! Как осмелиться когда-либо показаться на их глаза!
Еще если бы я восторжествовала! Но свет прощает все при успехе и ничего при поражении.
Я трепещу, что они выставят меня на общий смех и принесут мою добрую славу в жертву своей мести.
Несчастная, куда бежать, где скрыться? Ах, что я не в пустыне, чтобы оплакивать злоупотребление моими прелестями, искупить, вдали от глаз света, преступные заблуждения, которыми я запятнала мою жизнь! Что я не там, чтобы схоронить и мой стыд, и мое отчаяние!
LXXI.
Люцила Густаву.
Благодарение небу, Густав: наши семьи примирились.
Сегодня утром мой отец получил от вашего следующую записку:
«Усталый жертвовать пустым мнениям заботою о моем покое, счастьем моей жизни, я, дорогой граф, закрываю сердце для криков раздора. Забываю прошлое и горю желанием возобновить, со стаканом в руке, тридцатилетнюю дружбу!»
Отец едва закончил чтение, как, полный радости, вскричал:
— Итак, он опять со мною, дорогой друг! Идем к нему.
Мать очарована этим счастливым оборотом дела, и нужно ли вам говорить, что меня он привел в восторг.
Понедельник утром, улица Бресси.
LXXII.
Густав Сигизмунду.
В Пинск.
Судьба мне улыбается вновь, и насколько ранее ей доставляло удовольствие меня принижать, насколько теперь ей доставляет удовольствие меня возвышать. Ее дары, однако, всегда сопровождаются некоторой долей горечи, как будто бы она боится, что я к ним слишком чувствителен.
Итак ты узнаешь, дорогой друг, что Виленский палатин, мой дядя по матери, только что скончался, прожив счастливо восемьдесят лет, и что из всех его наследников я один получаю его обширные поместья.
— Вот розы, — скажешь ты, — а где же шипы? Несколько слез, которые нужно будет пролить, или сделать вид, что проливаешь, при отпевании, и траур, который надо будет носить в продолжение некоторого времени?
Я знаю хорошо, дорогой друг, что ты не видишь здесь ничего, чтобы заставило горевать, но ты также знаешь, что мы — люди различного воспитания.
Палатин был такой любезный человек, сохранял до последних дней такое спокойное, приятное, доброжелательное настроение духа, что нет никого из знавших его, которые искренне его не пожалели бы; суди, должен ли горевать я, к которому он всегда относился с нежностью отца.
Со времени возвращение моего в Варшаву, он показывал более чем когда-либо расположения ко мне и хотел чтобы я был постоянно около него. Несчастное падение при выходе из-за стола, случившееся несколько дней назад, уложило его в постель. С тех пор, несмотря на всю помощь со стороны науки, он не мог более оправиться. Не знаю, чувствовал ли он приближение своего конца, но только казалось, он ожидал смерти, как приятного сна.
В понедельник утром он на моих руках испустил последний вздох.
Его очень престарелые годы, вот что несколько смягчает печаль о потере его. Природе угодно отсчитывать нам здесь определенное число дней, которое редко кто переходит.
Решено, что мой брак с Люцилой последуете лишь после трех месяцев, траура. «Нужно, говорит мой отец, быть в состоянии прилично, с веселым лицом, явиться на это торжество».
Это замедление меня не устраивает, и повод к нему мне кажется не подходящим. Не знаю, но мне думается, что я вполне сумел, бы найти способ не скучать с моей милой, не задевая благовидности и не оскорбляя глаз публики.
Я приму ее в качестве повелительницы, именно в оставленном мне дядей дворце. В ожидании я займусь приведением его в порядок. Нужно, чтобы все дышало тут изяществом, вкусом, приятностью, чтобы все сошлось сделать из него храм наслаждений и сладостной истомы.
И здесь-то именно, в соединении всего, что мне дорого на свете, я увижу чрез немного времени, как любовь и дружба будут поочередно торжествовать друг за друга.
Мое счастье, ты знаешь, я полагаю в том и другом, и тебе не безызвестно, какое ты занимаешь место в моем сердце.
Варшава, 3 ноября 1770 г.
LXXIII.
Густав Люциле.
Правда ли, Люцила, что ты отказываешься от горячо любимого имени супруги? Увы! Того ли я ждал?