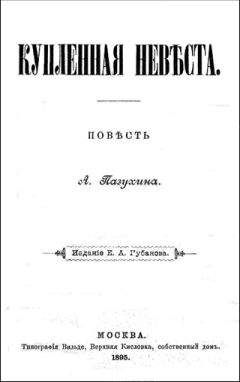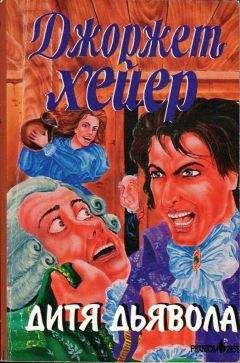Алексей Пазухин - КУПЛЕННАЯ НЕВѢСТА (дореволюционная орфоргафия)
— Полно плакать, купецъ, полно горевать! — обратился къ Латухину Прошка.
— Какъ же мнѣ не плакать то, милый человѣкъ? — проговорилъ Латухинъ, вытирая слезы рукавомъ. — Горе у меня великое, сведетъ меня то горе въ сырую землю!
— Что же за горе такое, купецъ? Ты разскажи, такъ тебѣ легче будетъ. Выпей вотъ еще стаканчикъ и разскажи, подѣлись своимъ горемъ то съ нами безпардонными, коли ужъ ты не погнушался нами. Выпей, купецъ. Извини ужъ, что мы „твоимъ же добромъ тебѣ же челомъ“, своего то нѣтъ.
— Пить я больше не буду, нехорошо, голова болитъ съ вина то, — отвѣтилъ Иванъ Анемподистовичъ. — Мнѣ и такъ тяжело да нудно.
Онъ облокотился о столъ и, не переставая плакать, началъ говорить о своемъ горѣ. Не только Прошка и его товарищи, а и прочіе „гости“ и самъ цѣловальникъ Митричъ съ любопытствомъ слушали его. Какой то мужикъ, громаднаго роста, богатырски сложенный и одѣтый лучше другихъ, слушалъ издали, сидя за столикомъ и покуривая трубку. Когда разсказъ выпившаго Ивана Анемподистовича подходилъ уже къ концу, великанъ поднялся со своего мѣста, подошелъ поближе и слушалъ стоя.
Иванъ Анемподистовичъ кончилъ и зарыдалъ, схвативъ себя за волосы.
— Погибъ я, братцы, пропалъ! — воскликнулъ онъ. — Не жить мнѣ безъ голубки моей! Одно теперь осталось мнѣ — надѣть камень на шею, выбрать омутъ въ Москва-рѣкѣ поглубже, да и бултыхнуться туда, погубить свою душу грѣшную... Не выдержать мнѣ горюшка моего, не перенести!
— Чѣмъ самому въ омутъ лѣзть, такъ лучше свово ворога туда ссунуть, — густымъ басомъ проговорилъ великанъ, не произносившій до сихъ поръ ни слова.
Всѣ оглянулись на него.
— Ишь, даже дядя Игнатъ заговорилъ! — замѣтилъ кто-то.
— Да какъ же не заговорить, коли человѣка такъ обидѣли? — отозвался великанъ. — Раззорили, душу вынули. Мы, сѣрые люди, ломаные, съ колыбели къ горю то привычны, корой словно ель столѣтняя сердце то наше обросло, а и то больно, ежели жену, невѣсту отымутъ, близкаго человѣка оторвутъ, а онъ, вишь, какой, онъ человѣкъ хлибкій, балованный, ему тяжелѣй нашего. Эхъ, не плачь, купецъ, а лучше дѣло дѣлай!
Великанъ подошелъ къ столу, смахнулъ рукой со скамьи какого то парня, какъ кошку смахиваютъ, и сѣлъ напротивъ Ивана Анемнодистовича.
— Хочешь, помогу тебѣ, купецъ?
Иванъ Анемподистовичъ съ удивленіемъ взглянулъ на великана.
— Ты?
— Да, я.
— Какимъ же манеромъ?
Великанъ оглянулся кругомъ.
— Лишнія бревна тутъ есть, — замѣтилъ онъ, — не все говорить можно. Погоди малость, купецъ. Скоро чужаки то уйдутъ отсюда, такъ я съ тобой побесѣдую, а пока выпей, а ребята тебѣ пѣсню споютъ. И я пѣсню то послушаю; люблю я пѣсни хорошія.
— Знать, cталовѣрскія то въ скиту надоѣли, дядя Игнатъ? — со смѣхомъ спросилъ Прошка.
— Надоѣли и то, — добродушно усмѣхнулся дядя Игнатъ. — Хорошіе люди сталовѣры, душевные, угостительные, богомольцы, а вотъ на счетъ пѣсенъ строги, не любятъ, пуще же всего табаку не любятъ, страсть! А мнѣ безъ трубки прямо не жить. Ты, купецъ, не по старой вѣрѣ?
— Батюшка покойный былъ по Рогожскому кладбищу , а мы, почтенный, со всячиной, обмірщились почти.
— А все же, стало быть, есть старинка то: отъ табачку мово рыло воротишь.
— У тебя и табакъ больно ѣдкій, дядя Игнатъ, — замѣтилъ Прошка.
Игнатъ вмѣсто отвѣта крѣпко затянулся и выпустилъ клубъ дыма, отвернувшись отъ Ивана Анемнодистовича.
Посрединѣ кабака собирался между тѣмъ и импровизированный хоръ. Появились откуда то двѣ балалайки, бубенъ. Прошка всталъ впереди расположившихся полукругомъ пѣсенниковъ и запѣлъ хоровую „протяжную“ пѣсню. Это была тоскливая, за душу хватающая пѣсня, сложенная горе-горькимъ обездоленнымъ людомъ. Иванъ Анемподистовичъ, заслышавъ ее, снова заплакалъ.
— Потѣшь, Прошка, купца веселой! — крикнулъ Игнатъ. — Вишь, у него и безъ этой пѣсни душа болитъ.
Прошка лихо оглянулся на хоръ, тряхнулъ головой, притопнулъ ногой, обутой въ истрепанный лапоть, и запѣлъ „веселую“. Затренькали балалайки, зазвенѣлъ бубенъ. Молодой малый въ изорванномъ армячишкѣ, въ шапкѣ, изъ которой торчали клочья кудели, выскочилъ на средину и пустился въ плясъ.
— Никашу бы позвать, вотъ бы сплясалъ то да спѣлъ для купца! — съ улыбкой обратился дядя Игнатъ къ Прошкѣ.
— Что-жь, я добѣгу, приведу, — вызвался тотъ.
— А вотъ погоди. Уйдутъ „чужаки“ то, такъ мы и сбѣгаемъ, теперь не рука.
Игнатъ подошелъ къ цѣловальнику и что то шепнулъ ему.
— Ладно, сейчасъ прогоню, — вполголоса отвѣчалъ тотъ и минутъ черезъ пять обратился къ посѣтителямъ съ предложеніемъ оставить гостепріимное заведеніе.
— Запираться пора, ребята, спать время, ступайте съ Богомъ, ступайте! — говорилъ онъ, убирая со стойки посуду...
Часть „гостей“ поднялась, позѣвывая и почесываясь, и кабакъ началъ пустѣть; остались только Иванъ Анемподистовичъ, дядя Игнатъ, Прошка и еще пять человѣкъ, не считая самого цѣловальника и мальчика „подносчика“.
Въ началѣ двадцатыхъ годовъ „Митричевъ кабакъ“, расположенный подъ Симоновымъ монастыремъ за огородами, на самомъ почти берегу Москвы-рѣки, былъ извѣстенъ, какъ сборище разнаго темнаго люда, что не мѣшало хозяину кабачка, цѣловальнику Митричу, быть сыщикомъ. Онъ зналъ всѣхъ московскихъ воровъ, и если полиціи приходилось, во что бы то ни стало, розыскать краденое, то она обращалась къ этому Митричу, и краденое находилось немедленно, поэтому Митричъ и пользовался особыми льготами. Къ нему же обращались тѣ изъ московскихъ и подгороднихъ жителей, которыхъ посѣщали конокрады. У кого бы и кѣмъ бы ни была уведена лошадь, она находилась, если потерпѣвшій обращался къ Митричу и приносилъ условный выкупъ. Всѣ конокрады верстъ на сто въ округѣ были „свои люди“ у Митрича, и любили его, уважали и боялись. Хаживали къ Митричу и раскольники разныхъ толковъ, какъ въ пунктъ, гдѣ можно было получить всѣ новости по дѣламъ раскола. Позднѣе, съ воцареніемъ Государя Николая Павловича, при знаменитомъ графѣ Закревскомъ , Митричъ былъ посаженъ въ острогъ, судимъ и сосланъ въ Сибирь, но кнута онъ миновалъ, ловко отвертѣвшись отъ большинства возведенныхъ на него преступленій и уликъ. Въ Сибири онъ началъ крупное торговое дѣло, сильно разбогатѣлъ, и сынъ его, Павелъ Дмитріевичъ, вернулся въ Москву богатымъ купцомъ, построилъ громадный домъ на Берсеневкѣ, но прожилъ въ Москвѣ не долго: въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ попался „по раскольничьему дѣлу“ и тоже былъ сосланъ въ Сибирь, гдѣ и умеръ раззорившимся еще во время суда и не оставилъ потомства. Домъ его цѣлъ до сихъ поръ.
Проводивъ „чужаковъ“, то есть случайныхъ посѣтителей, не посвященныхъ въ тайны кабачка, Митричъ закрылъ окно ставнями, заперъ дверь и предоставилъ кабачокъ въ распоряженіе гостямъ, оставивъ „подносчика“, а самъ ушелъ спать въ пристройку позади кабачка.