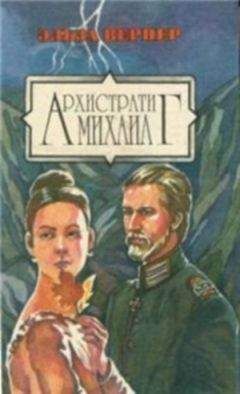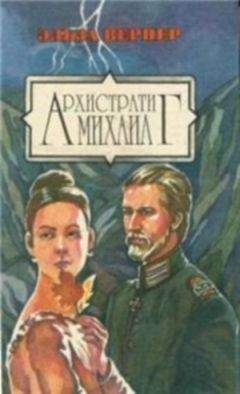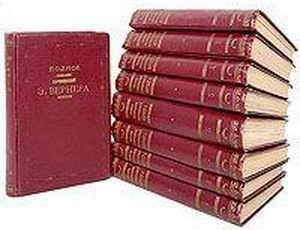Эльза Вернер - Развеянные чары
— Мне нужно видеть господина Рейнгольда, — пробормотал Иона.
Странно! Он почувствовал необходимость быть общительным, чего раньше никогда не испытывал по отношению к «женщинам». Однако он сделал открытие, что и это имя не было понято его маленькой приятельницей, так как она в свою очередь стала качать головой и пожимать плечами.
— Да, да, — сердито заворчал матрос, — ведь он не сохранил своего честного немецкого имени. Его зовут здесь Ринальдо… Господи, помилуй! У нас на родине так прозывают всяких разбойников и негодяев… Синьор Ринальдо, — пояснил он, протягивая конверт с запиской своего господина, на котором стояло то же имя.
Оно, естественно, было хорошо знакомо в доме синьоры Бьянконы; однако и без того не требовалось дальнейших объяснений, потому что как раз в ту минуту, когда головы матроса и девушки склонились над письмом, дверь отворилась, и в переднюю вошел сам Рейнгольд. Девушка первой заметила его. Она отскочила от матроса и, сделав изящный реверанс, исчезла по направлению к гостиной, чтобы доложить о нем своей хозяйке. Иона, не понимая, как можно так легко и быстро сбежать и совершенно исчезнуть, разинув рот, смотрел ей вслед. Рейнгольду не оставалось ничего более, как самому подойти к нему и спросить, зачем он явился. Смущенный и обескураженный, матрос протянул ему записку. Альмбах распечатал и быстро прочел ее, нисколько, по-видимому, не заинтересовавшись ее содержанием.
— Передайте моему брату, что я сегодня весь день занят и прошу, чтобы он один шел к маркизу. Если представится возможность, я приду туда вечером.
С этими словами он опустил письмо в карман, жестом отпустил матроса и с равнодушным видом направился в комнаты. Иона, исполнив поручение, мог бы спокойно отправиться домой, но он не сделал этого, а разыскал на дворе слугу, с которым перед тем говорил о своем поручении к Рейнгольду, и последний открыл, что неразговорчивый, угрюмый матрос стал вдруг чрезвычайно любопытным: он подробно расспрашивал о порядках в доме синьоры Бьянконы, о ее прислуге и терпеливо переносил поистине ужасный немецкий язык гордившегося своими познаниями итальянца.
Рейнгольд вошел в будуар Беатриче. Ему, конечно, не нужно было докладывать о себе, да и примадонна сама уже встретила его на пороге, но будь он не так поглощен своими мыслями, то сразу заметил бы ее необычный вид. Яркий румянец итальянки исчез, в лице ее не было ни кровинки, и глаза на этом бледном лице горели еще ярче обычного. Беатриче, в достаточной степени актриса, чтобы хотя короткое время владеть своим бурным темпераментом, когда хотела добиться своего, смотрела с мрачной решимостью — во что бы то ни стало выяснить положение.
— Я встретил Джанелли на улице, — заговорил Рейнгольд, поздоровавшись. — Видно, он вышел из твоего дома; он был у тебя?
— Конечно! Я знаю, что ты не расположен к нему, но не могу отказать в приеме капельмейстеру оперы, когда он приходит посоветоваться со мной относительно деталей постановки.
Рейнгольд пожал плечами.
— Это можно отлично сделать и на репетиции. Разве ты молодая дебютантка, нуждающаяся в протекции и опасающаяся наступить кому-нибудь на ногу? По-моему, в твоем положении можно держать себя по отношению к несимпатичным людям откровенно, как делаю я. Впрочем, не хочу ни к чему принуждать тебя. Принимай кого угодно, хотя бы и Джанелли.
Его холодный тон не понравился синьоре Бьянконе, и она произнесла слегка дрогнувшим голосом:
— Вот это ново! Прежде ты, бывало, деспотически следил за всеми, кто посещал меня, и никто из неприятных тебе людей не смел переступить порог моего дома.
Рейнгольд бросился в кресло.
— Ты видишь, я стал терпимее.
— Терпимее или… равнодушнее?
— Ты же сама довольно часто жаловалась на мой деспотизм, — заметил он с легкой усмешкой.
— И тем не менее легко смирялась с ним, так как знала, что он порожден любовью. Вполне естественно, что с концом любви кончается и деспотизм.
Рейнгольд сделал нетерпеливое движение.
— Беатриче, ты требуешь невозможного, желая, чтобы человеческое сердце на веки вечные оставалось вулканом страстей, который, по-твоему, называется любовью.
Она подошла к его креслу, оперлась рукой о спинку и, наклонившись, со странным выражением произнесла:
— Впрочем, я вижу, что нельзя требовать от холодного сердца северянина той любви, которую я даю и которой… жажду.
— Тебе следовало оставить его на севере, — мрачно отозвался Рейнгольд. — Для него, пожалуй, северный мороз был бы благодетельнее вечного южного зноя.
— Что же это — упрек? Разве я насильно оторвала тебя от родины?
— Нет, я ушел добровольно, но будь справедлива, Беатриче, — ты побудила меня к этому. Кто постоянно настаивал на отъезде? Кто напоминал мне о моем артистическом призвании? Кто называл меня трусом, когда я останавливался перед ответственностью, и кто предложил мне на выбор бегство или разлуку? Я полюбил тебя… ты заранее знала мое решение.
Темные глаза итальянки грозно сверкнули, но она сдержалась.
— Дело шло о нашей любви, о твоем артистическом поприще. Спасая тебя, я спасла для мира гения.
Рейнгольд молчал. Эта защита не нашла в его душе отклика. Беатриче наклонилась к нему еще ниже, и в ее голосе снова зазвучали нежные, пленительные нотки, но лицо не утратило неприятного выражения.
— Ты бредишь, Ринальдо, ты снова охвачен тем настроением, с которым мне так часто приходилось бороться. Разве это первое расторжение несчастного брака ради других, счастливых уз?
Рейнгольд оперся головой на руку:
— Нет, конечно, нет. Но твой пример ни к чему, так как мой брак расторгнут, а мы… и не думали о свадьбе.
Беатриче вздрогнула, и ее рука соскользнула со спинки кресла.
— Ты не был свободен, — пробормотала она.
— Мне стоило сказать слово, чтобы добыть свободу. Я знал, что меня не станут удерживать, а ты, хотя и католичка, могла свободно получить разрешение на этот брак. Но и ты, и я боялись неразрывных уз; мы хотели быть свободными от цепей, не знать преград ни в жизни, ни в любви… Ну что же, до сих пор так и было.
— Что ты хочешь сказать? — Беатриче, задыхаясь, схватилась за сердце. — Неужели ты считаешь, что твой брак сохранил свою силу?
— О, нет! А если бы я даже и думал так, мне скоро разъяснили бы мое заблуждение. Ведь тебе незнакома добродетельная гордость оскорбленной жены и матери. Грешнику нет помилования, даже если он захочет посвятить всю свою остальную жизнь раскаянию и искуплению!
Рейнгольд хотел придать своему голосу насмешливый тон и не почувствовал, какая скорбь прозвучала в нем вместо насмешки; но Беатриче отлично поняла это, и ее с трудом сдерживаемое самообладание разом рухнуло.