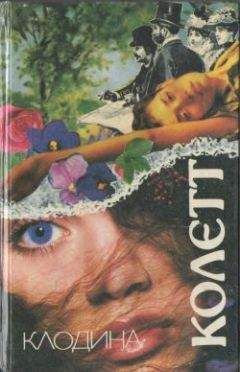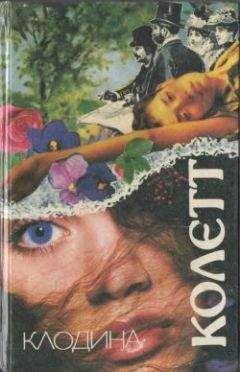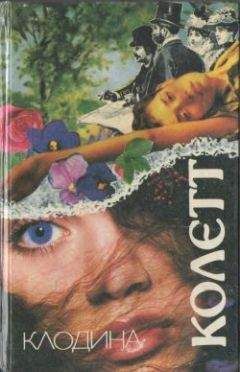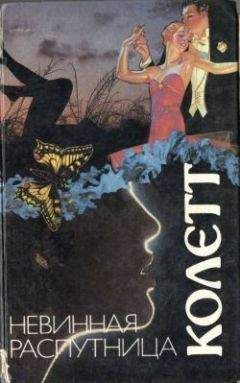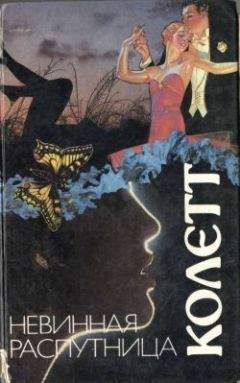Сидони-Габриель Колетт - Клодина в Париже
– Нет, нет, не здесь! Беги залечивать свои раны к Шарли!
Приложив к глазу платок, он спешит схватить свою шляпу и, забыв перчатки, уходит; я распахиваю перед ним все двери и прислушиваюсь к его неверным шагам на лестнице. Потом возвращаюсь к себе в комнату и стою неподвижно, без единой мысли в голове не знаю сколько времени. Но ноги у меня подкашиваются, и я вынуждена сесть. Это простое движение словно пробуждает меня, и я лечу в пропасть! Деньги! Он осмелился сказать, что я хочу заполучить деньги! Ничего, я здорово отделала его, даже клочок кожи повис… Господи, ещё немного – и я выцарапала бы ему глаз. И этот трус даже не побил меня! Уф! Просто тряпка, вот что… Деньги! Деньги! Да на что они мне? Мне и Фаншетте их вполне хватает. О дорогой мой Рено, я расскажу ему всё и укроюсь у него на груди, мне так сладко будет выплакаться, чувствуя его нежность…
А этого мальчишку, которого я расцарапала, пожирает зависть, ревность, подлая девчоночья душонка!
И вдруг я понимаю, у меня даже начинает ломить виски; это ведь его деньги, деньги Марселя, достанутся мне, если я стану женой Рено; он дрожит за свои деньги! А как помешать этому бессердечному мальчишке поверить в алчность Клодины? И ведь наверняка не один он станет так думать, и он скажет, они скажут Рено, что малышка продаётся, что она обольстила беднягу, который уже вступает в опасный период сорокалетия… Что же делать? Что делать? Я хочу видеть Рено, я не хочу денег Марселя, но при этом хочу заполучить Рено. Может, попросить помощи у папы? Увы!.. У меня так болит голова… Неужели я откажусь от этого сладостного, дорогого местечка у него на плече? Нет! Скорее уж пусть всё взлетит на воздух! Я заманю сюда, в мою комнату, этого Марселя и убью его. А потом скажу стражникам, что он хотел причинить мне зло и что, защищаясь, я убила его. Вот так!
До того самого часа, когда мяуканье проголодавшейся Фаншетты вернуло меня к действительности, я просидела, поджав под себя ноги, в низеньком кресле, двумя пальцами закрыв глаза, двумя – заткнув уши, погрузившись в какие-то дикие мечты, переполненная отчаянием и нежностью…
– Обедать? Нет, я не буду обедать. У меня мигрень. Принеси мне прохладного лимонада, Мели, я умираю от жажды. Я пойду прилягу.
Папа в беспокойстве, Мели в тревоге, они кружат вокруг моей постели до девяти часов; не в силах терпеть этого больше, я умоляю их:
– Уходите отсюда, я устала.
Лампа потушена, я слышу, как прислуга во дворе хлопает дверьми, моет посуду… Мне нужен Рено! Почему я сразу же не послала ему телеграмму? Слишком поздно уже. Завтра никогда не наступит. Мой драгоценный друг, жизнь моя, ты, кому я вверяю себя как любимому отцу, тот, рядом с которым я попеременно то стыжусь, то тревожусь, словно и в самом деле была его любовницей, – а потом расцветаю от радости и не испытываю ни малейшего стыда, словно ещё совсем маленькой девочкой он убаюкивал меня на своих руках…
После лихорадочных часов, мучительного стука молоточков в голове, молчаливых призывов к кому-то, кто слишком далеко и не слышит меня, мои обезумевшие мысли проясняются к трём утра и все концентрируются наконец вокруг одной Идеи… Она пришла с зарёй, эта Идея, с пробудившимися воробышками, с робкой, недолгой прохладой, которая обычно предшествует летнему дню. Восхищённая этой Идеей, я продолжаю неподвижно лежать на спине в своей кровати, широко распахнув глаза. До чего это было просто и до чего бесполезны все мои страдания! У меня будут запавшие глаза и осунувшиеся щёки, когда придёт Рено. Только этого не хватало!
Я не желаю, чтобы Марсель думал: «Клодина метит на мои деньги». Но я не желаю говорить Рено: «Убирайтесь вон и не любите меня больше». О Господи, совсем не эти слова мне хочется ему сказать! Но я не хочу также быть его женой, и, чтобы успокоить свою слишком ранимую совесть – так вот! – я стану его любовницей.
Освежённая, возрождённая этим, я засыпаю теперь как убитая, лёжа ничком, уткнувшись лицом в скрещённые руки. Речитатив моего старого классического нищего пробуждает меня, успокоенную и удивлённую. Уже десять часов!
– Мели, брось четыре су старику!
Мели не отзывается. Я влезаю в свой пеньюар и бегу к окну гостиной босиком, со встрёпанными, как сорная трава, волосами.
– Вот десять су, старик. Лови монету.
Какая прекрасная белая борода! Верно, у него в деревне есть домик и земля, как у большинства парижских нищих. Тем лучше для него. Возвращаясь в свою комнату, я натыкаюсь на господина Мариа, который только что вошёл в прихожую: он останавливается, ослеплённый моим утренним дезабилье.
– Не кажется ли вам, господин Мариа, что сегодня наступит конец света?
– Увы, нет, мадемуазель.
– А мне кажется, наступит. Вот увидите.
Сидя в тёплой воде в лохани, я тщательно рассматриваю, изучаю себя. Ведь нельзя сказать, будто у меня волосатые ноги, только из-за того, что на них лёгкий пушок? Чёрт побери, соски у меня не такие розовые, как у Люс, зато ноги длиннее и красивее и бёдра с ямочками; конечно, это не Рубенс, нет, но мне и не нравится этот тип «прекрасной мясничихи» – и Рено тоже.
Имя Рено, чуть не произнесённое вслух, в минуту, когда всю мою одежду составляет только буковая лохань, внушает мне необычную робость. Одиннадцать часов. Ждать ещё целых пять часов. Пока всё идёт хорошо. Расчешем, расчешем как следует свои кудри, почистим зубы, почистим ногти! Черт возьми, надо, чтобы всё сверкало! Тонкие чулки, новая сорочка, подобранные в тон панталончики, розовый корсет, переливающаяся нижняя юбка в мелкую полоску, шуршащая при каждом моём движении…
Веселясь, точно в Школе, деятельная, оживлённая, я развлекаюсь как могу, чтобы не слишком задумываться о том, что может произойти… Потому что сегодня. Боже мой, я отдаюсь ему, он может, если пожелает, взять меня сегодня, всё это принадлежит ему… Но я надеюсь, что он не пожелает этого так скоро, Боже мой, если вдруг… Это было бы совсем не похоже на него. Я полагаюсь на него, ну да, гораздо больше, чем на себя. Сама я, как говорят в Монтиньи, перестала «быть над собой хозяйкой».
И всё же послеобеденное время мне пережить нелегко. Не может он не прийти. В три часа я мечусь, словно пантера в клетке, уши у меня стоят торчком…
Без двадцати четыре – очень слабый звонок в дверь. Но я не сомневаюсь: это, конечно, он. Я стою в изножье кровати, прислонившись к спинке, я больше не существую. Дверь открывается и закрывается за Рено. Без шляпы, с обнажённой головой, он кажется немного похудевшим. Усы его еле заметно подрагивают, глаза в темноте сверкают синим пламенем. Я не шевелюсь, не произношу ни слова. Он словно стал выше ростом. Побледнел. Он смуглый, усталый, великолепный. Ещё в дверях, даже не войдя в комнату, он совсем тихо говорит: