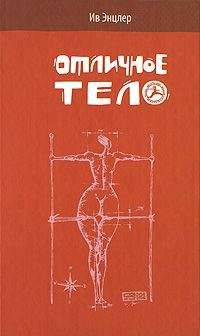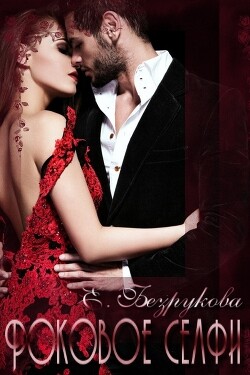Яд вожделения - Арсеньева Елена
Она вскочила и стала, пошатываясь, сонно, с ужасом тараща огромные серые глаза.
У Аржанова вдруг сжалось сердце. Немыслимо… немыслимо, чтоб эдакая красота жила по своим скверным похотям! Конечно, по пословице, сколько цвету ни цвесть, а бысть опадать, но все же до чего горько видеть этакое дивное создание залапанным, захватанным, измятым драгунами!
– Ты не подлой породы – с чего же так сподличалась? – пробормотал он, не сводя глаз с этого стройного стана, стянутого дорогой одеждою, с роскошной растрепанной косы, нежной кожи и пытаясь поймать убегающий, полубессмысленный взор ее темно-серых глаз.
– Позвольте слово молвить, господин капитан! – Кто-то тронул его сзади за плечо.
– Чего тебе, Федьша? – рассеянно обернулся Аржанов. – Опять про сестру заведешь байку? Или какие неудобьсказуемые подробности добавишь о том, как вы тут с ней забавлялись по-родственному? Ох, нет, избавь, знаешь… – Он с отвращением поморщился.
– Да мы, господин капитан, ее и не тронули никто, вот вам крест святой! – побожился Федька, и его голубые навыкате глаза, всегда нагло-невинные, теперь были искренни и печальны. – Она как пришла, как упала на нары – да и спала без просыпу. Мы уж думали – неживая. Не скрою, хотели тут иные взять ее насилкою, да какой в том прок, коли баба – бревно бревном? Не удовольствие, а бесчестие одно. К тому ж подружки с ней были веселые, удалые, умелые – всех нас обиходили, никого не обидели. А эта все спала и спала. Прочие женки смеялись да сказывали, что она прибрела к ним невесть откуда, пока они нашего сигнала ждали, дескать, начальства нету. Прибрела – они ее и прихватили с собой, сочтя за свою. А она, господин капитан, странная… – Федька умолк, значительно поглядев на капитана. – Я вот думаю… может, опоили ее чем да нарочно к нам привели? Скажем, в отместку?
Аржанов поглядел задумчиво. Федька не врет, он это чуял. С тех пор как в деле под Лесной прапорщик Аржанов спас жизнь рыжему новобранцу, их связывали особые отношения. В баталиях оба свято блюли девиз: «Бегать – смерти не убегать!», а потому перли очертя голову навстречу любой опасности, втихомолку приглядывая друг за другом. И ни разу ни один даже ранен не был! Виделись они теперь нечасто, однако Аржанов знал доподлинно: Федька ему не соврет. И ежели он говорит, что странную девку, которая, едва придя веселиться в казарму, повалилась спать, никто и пальцем не тронул, значит, так оно и есть.
Аржанов и сам не понимал, почему вздохнул свободнее при этой новости. Ну что ему до этой гулящей, пусть она даже и хороша так, что дух захватывает? Отчего ему так важен мало-мальский намек на то, что она здесь по нечаянности, может быть, по злому умыслу? Почему он схватился за этот намек, будто утопающий за соломинку? Неужели потому, что она слегка похожа… похожа на одну, мимолетную, которую он нашел посреди ночи, а утром потерял – по глупости, по трусости, по дурацкой осторожности – и больше уж не нашел ни ее, ни даже отдаленного подобия, хотя искал, искал, перебирая бессчетно женщин всякого чина и звания?.. А эта – правда похожа, хотя одета не как деревенская девка, а скорее как дама. Да, вот еще одно доказательство той странности, на которую намекает приметливый Федька. Всем этим «гулящим и непотребным» такое платье и во сне не приснится! И такие башмачки сафьяновые, с круто выгнутым каблучком.
Нет, здесь что-то не так.
– Погоди! – Он загородил путь Самойлову, который тащил за собой упиравшуюся незнакомку. – Куда навострился? Твое дело – фузеи проверить, чищены ли, да хорошо ли пристреляны карабинцы. Ты, что ли, профос, тащить ее на расправу? А ну, дай ее мне!
Посунув плечом Самойлова, он взял девичью руку – и его почему-то так и ожгло, хотя ладонь у нее была сухая и прохладная.
– Да ведь и ты не профос! – жалобно воскликнул изумленный Самойлов, на что Аржанов только хохотнул:
– Ты же сам говорил, что я – блюститель порядка! Вот и не мешай мне его блюсти!
С этими словами он промаршировал через казарму и вышел вон, не выпуская руки девушки, которая почему-то послушно шла за ним и ни разу даже не попыталась вырваться.
4. Задумчивая ночь
Он шел и думал, что же это с ним творится.
Чай, не мальчик. И сказать, что ему внове брать незнакомую женщину за руку, – значит, самого себя на смех поднять. Брал, брал… да что за руку – за сердце брал сразу, с одной встречи, с одного взгляда! Откуда же это тревожное чувство, будто прохладная рука его самого взяла за сердце?
Остановился, глянул через плечо. Та, которую он вел за собой, тоже остановилась. Ее чуть пошатывало, глаза полузакрыты. Аржанов так и взвился: да она спит на ходу! Идет и спит – и не чует, что у него сердце замирает, когда безучастные тонкие пальчики чуть вздрагивают в его пальцах!
Аржанов знал женщин. Попадались такие умелицы, что одними дразнящими касаниями могли мужика заставить трепака перед ними плясать да через голову переворачиваться! Может быть, и она из таких?.. Ну что ж, он жаловал подобных умелиц и тешил плоть свою как хотел, но никогда, ни разу его душа не была побеждена женщиной. Был один раз… но нет, он не любил об этом думать и начинал ненавидеть себя, когда попадал во власть дурманящих сладких воспоминаний. То был плен, томительный плен… но это в прошлом и никогда не вернется опять! Сейчас все иначе. Особую остроту самым пылким отношениям придавало то, что Аржанов всегда знал: он свободен. Он может встать с этой постели и уйти в любую минуту – и никакие слезы, никакие ласки и мольбы не удержат его, даже если любовница будет влачиться за ним на коленях, цепляясь за полу одежды нагими руками и уверяя, что немедленно лишит себя жизни, ежели он не воротится. Ну что греха таить: порою он нарочно поступал жестоко, чтобы услышать эти мольбы, клятвы, увидеть слезы… он не верил женским слезам. Скрывая за небрежным любвеобилием раненую, тоскующую душу, он очень тонко чувствовал женскую натуру и не сомневался: женщина создана не для счастья, а для страдания, для слез, для сердечной боли, и без этого всего ей жизнь не в жизнь. Именно поэтому так редки семьи, где жена открыто или мысленно не прелюбодействует на стороне. Муж-то уверен, что окружил свою лапушку всеми мыслимыми и немыслимыми заботами, он хоть в кулак зажмет свое мужское достоинство, а не тронет женушку, если ей вдруг неможется или если у нее чуть ли не еженедельно вдруг пошли месячные дни… А его белая лебедушка в это время точит слезы о том сильном, небрежном, который властен над ней, и хоть расточает изысканные комплименты во время танца, хоть изображает галантного кавалера, оба они знают: по его воле она даже посреди бальной залы задерет юбки и будет с восторгом целовать небрежно, а то и грубо тискающую ее руку.
«Бабу хлебом не корми, только дай ей поплакать и почувствовать себя несчастной!» – был убежден Аржанов, и жизнь подтверждала его мнение. Может быть, иные женщины где-то существовали, но они ему просто-напросто не попадались. И, заставляя женщин страдать, он был убежден, что потакает их самым тайным, заветным желаниям, – а оттого уходил не задумываясь, стоило лишь почуять, что кто-то начал считать его своей собственностью.
Так отчего же он сейчас идет неведомо куда, сжимая вялую ладонь распутной, сонной незнакомки? Или в этом равнодушии кроется для него особая притягательная сила? Женщины всегда цеплялись за него, а эта… эта… Или Федька все же наврал, и ее до того уделали бравые драгуны, что сейчас о мужике и думать тошно?
Такая тяжесть вдруг налегла на сердце, что Аржанов с ненавистью отдернул руку и, не взглянув более на незнакомку, ломанул через рощу, не разбирая дороги.
Какого черта?! Пусть идет сама, куда ей надобно. Себе-то можно не лгать: он все равно не потащит ее на расправу в полицию, хоть и взята была девка, что называется, на месте преступления. Так зачем она ему, зачем лишняя докука и непонятное томление?
Он выбрался из кустов к малой речушке с пологим бережком, огляделся.