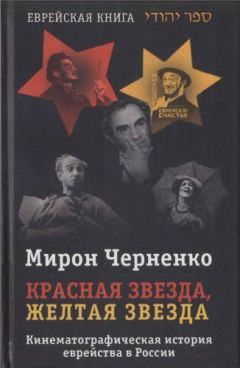Марина Друбецкая - Продавцы теней
Глава IX. В Ялте наступила весна
Ожогин был зол. Злость скрипела на зубах, дергала висок, звенела в горле. Он чувствовал себя как бегун, который привык всегда приходить первым и вдруг обнаружил, что стоит на обочине, а мимо — вперед, вперед, вперед! — несутся другие. Он бегал из конца в конец широкой каменной террасы, махал кулаком, тряс головой и время от времени отпускал крепкое словцо. Споткнулся о выступ между плитами, чуть не упал, выругался и взревел:
— Вася!
Чардынин, хоронившийся за дверной створкой, тут же выскочил и сунулся было к нему с успокоительными каплями. Ожогин на ходу оттолкнул его руку. Пузырек отлетел и разбился. Запахло валерианой.
— Вася, мерзавца с его бутербродом — под суд!
— Помилуй, Саша! Он-то тут при чем? Других отдавать надо.
— Ты прав. — Ожогин перевел дух. — Да вытрет кто-нибудь наконец эту валерьянку? Невозможно дышать!
Прибежала испуганная горничная с тряпкой. Барин обычно такой тихий, приветливый. И вот — на тебе! — гневается. А на что?
Чардынин же, подгоняя деваху, чтобы скорее орудовала тряпкой, улыбался в усы. Он был рад, что Ожогин наконец как следует разозлился. Несколько дней тот пребывал в настроении более чем мрачном. Не выходил из кабинета. Почти не разговаривал. Сидел в большом вольтеровском кресле, глядел, сдвинув брови, в пол. Жевал сигару. С лица не сходило сонное выражение.
Чардынин крадучись ходил мимо кабинета, заглядывал с тревогой в дверь. Все то же? Все то же. Чардынин знал: если Саша не разозлится, если проглотит обиду, смолчит, смирится, затихнет, то уж, верно, — навсегда. Не будет строительства. Не будет новой кинофабрики. Не будет фильмов о безудержных приключениях и безрассудных аферах. Ничего не будет, кроме тихой, уютной, безбедной жизни здесь, на ялтинской дачке, или в Москве, в городской квартире, жизни, полной печали, которая с годами станет привычкой и засосет с головой. И ему, Чардынину, ничего не останется, как принять эту жизнь — он уже понял, что Саша никуда его от себя не отпустит. Да он и сам не уйдет. При мысли об этой тихой уютной жизни его охватывала невыносимая тоска. Он начал придумывать, как бы подтолкнуть, вывести Ожогина из спячки. Но вот сегодня — слава богу! — прорвало.
Земли, которые Ожогин купил в Крыму во время войны, стоили по тем временам немереных денег. Да и сегодня он вздрагивал, вспоминая кучу бумажек, которые, судя по всему, канули в бездну и на которые можно было бы построить еще одну кинофабрику в Москве. Потерять эти земли означало потерять половину состояния. Дачки… Скворечники… Мерзавец-управляющий, конечно, ни при чем. Вася прав. А все-таки мерзавец! Но он-то! Он-то! Как он мог оказаться таким болваном! Дать себя облапошить! Себя!
— Вася! Где, черт возьми, бумаги? Купчая, Вася, купчая!
Чардынин бросился искать купчую. Бумаги, привезенные из Москвы, лежали в саквояже, который по приезде бросили в темный угол, да так на три месяца там и забыли. Ожогин о них не думал. Чардынин несколько раз хотел было разобрать, но сам же себя и останавливал. Был суеверен. Боялся: начнет делами заниматься и спугнет Сашины такие неверные, такие эфемерные, такие изменчивые мысли о строительстве.
Купчая на земли нашлась на самом дне саквояжа. Тут же были и слипшиеся от времени пожелтевшие листки договора с городской управой.
— Вася, читай!
Чардынин нацепил очки, разлепил страницы, забубнил. Ожогин слушал, прикрыв ладонью глаза. Ага, вот он, подлый пункт!
— «…буде владелец вышеозначенных земель в пятилетний срок не…»
— Что ты читаешь? Я не понимаю ни черта! Что значит «буде»? Кто он такой, этот «буде»?
— Успокойся, Саша, не кричи. Имей терпение, «…в пятилетний срок со дня заключения настоящего договора не начнет освоения таковых земель, как то: строительство жилых и нежилых…» Н-да… Вот еще «разработка недр… устройство оздоровительных, тако же и увеселительных заведений…»
— Тако же?!
— «…сбор и переработка природных богатств… промышленные предприятия, как то: фабрики и заводы…»
— Заводы?! Что же они хотят, чтобы я на них производил? Танки? Конфеты «монпансье»? Женские подвязки? Втулки чугунные?
— «…создание акционерных обществ и компаний… проведение ветки железнодорожного сообщения…»
— Они что, с ума сошли? Какое сообщение? Куда? С горы в море?
— «…отчуждается в пользу… с правом проведения вторичных торгов земельным комитетом…» Саша, тут подпись твоя.
Ожогин выхватил у Чардынина бумагу. Пробежал глазами.
— Обман, — сказал он устало. — Как есть обман. Нанимай адвоката, Бася.
Чардынин смотрел на него с сомнением, жалостливо мигая поверх стекол очков близорукими глазами. Конечно, на Сашу не похоже, чтобы он заключил столь безрассудный, если не сказать безумный, договор. Однако он помнил, с какой лихорадочной поспешностью покупались во время войны земли. Покупались, когда синематографическое дело в одночасье пришло в упадок, да что там в упадок, на ладан дышало — пленки, которую до войны везли из Германии, нет, оборудования нет, синематографические театры закрываются один за другим. Казалось, единственное спасение от неминуемого разорения — земля. Уж она-то не подведет. Да полно, читал ли Саша эту галиматью, перед тем как подписывать?
Был нанят адвокат — благообразный молодой человек, пробор-ниточка, усики-ниточки, височки-ниточки, галстук-ниточка, полосатые брюки, лаковые штиблеты. Говорили — один из лучших в Таврической губернии, даром, что только за тридцать. Ни одного проигранного дела. Говорили и другое. Ни одного проигранного дела, потому что берется только за дела, благоприятный исход которых заведомо известен.
Адвокат ездил из Симферополя. Ожогин оплачивал гостиницу в Ялте: адвокат не любил возвращаться вечером через перевал. Адвокат приезжал два раза в неделю, изучал бумаги, наводил справки в городской управе, запрашивал какие-то документы в архиве.
Ужинать являлся на дачку Ожогина. Ел очень деликатно. Манеры имел безупречные. Жесты — плавные. Речь — вкрадчивую. Нахваливал ожогинских рябчиков и стерлядок. Смаковал вина. С удовольствием дегустировал коньяки. Намекал, что белужью икорку предпочитает осетровой. За кофе любил поговорить об искусстве.
— Синема, — журчал тихий вкрадчивый голос, — есть искусство отдохновения и воспламенения самых тончайших струн чувствительного организма.
— Воспламенения струн? — переспрашивал Ожогин. — Я, простите, не ослышался?
Адвокат его раздражал. Был он прилизанный, скользкий, о деле толком ничего не говорил, хотя языком трепал много, и все глупости. Сидя боком на стуле, Ожогин злился, катал по скатерти хлебные шарики, кидал в рот. Иногда отпускал язвительные замечания.