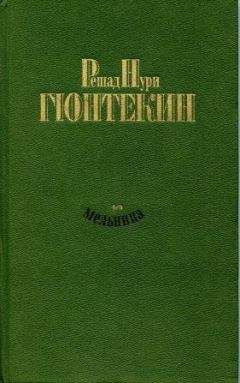Решад Гюнтекин - Птичка певчая
Прав был поэт, написавший эти стихи.
По странной случайности в тот же день покидала Б… и моя соседка из Монастира. Но только она была в более плачевном положении, чем я.
Вчера вечером я упаковала вещи и легла спать. Ночью сквозь сон я слышала чьи-то грубые голоса, но никак не могла проснуться.
Вдруг страшный грохот заставил меня вскочить с постели. В коридоре дрались. Слышался детский плач, крики, глухой хрип, звуки ударов и пощёчин. Спросонья я подумала было, что случился пожар. Но зачем же люди дерутся на пожаре?..
Босиком, с растрёпанными волосами я выскочила в коридор и увидела страшную картину. Длинноусый офицер богатырского телосложения волочил по полу бедную соседку, избивая её плетью и топча сапожищами.
Дети вопили:
— Мамочка!.. Папа убивает маму!
Несчастная женщина после каждого пинка, после каждого взмаха плётки, которая извивалась и свистела, как змея, со стоном валилась на пол, но затем, собравшись с силами, вдруг вскакивала и хватала офицера за колени.
— Буду твоей рабыней, твоей жертвой, мой господин!.. Убей меня, только не бросай, не разводись со мной!..
Я была почти раздета, и мне снова пришлось вернуться в номер. Да и что я могла сделать?
Уже проснулись обитатели первого этажа. Внизу послышался топот ног, неясные голоса. На потолке коридора заплясали тени. В пролёте лестницы показалась лысая голова Хаджи-калфы. Старика разбудил грохот, он схватил коптилку и, как был в нижнем белье, кинулся наверх.
— Как не стыдно! Какой позор! Да разве можно так безобразничать в гостинице? — закричал он и хотел было оттащить офицера.
Но офицер что было силы ударил храбреца ногой в живот. Бедняга Хаджи-калфа взвился в воздух, словно большой футбольный мяч, влетел сквозь незапертую дверь в мою комнату и грохнулся спиной на пол, задрав вверх голые ноги. К счастью, я вовремя успела подскочить и подхватить его, иначе лысый череп бедняги, наверно, раскололся бы о половицы, как большая тыква.
Прерванный сон, страх, изумление и, наконец, вид старого номерного, — мои нервы не выдержали всего этого.
Старик с трудом поднялся на ноги, приговаривая:
— Ах, господи!.. Ах ты, господи!.. Ах, будь ты неладен!.. Грубиян!..
И тут я повалилась на постель, не знаю, как я осталась жива. Я задыхалась, захлёбывалась в истерическом хохоте, комкала руками одеяло. Мне уже было не до трагедии, разыгравшейся в коридоре.
Когда я пришла в себя, шум и крики за дверью прекратились, гостиница опять погрузилась в тишину.
Мне потом рассказали, что произошло. Навязчивая любовь особы из Монастира стала в конце концов офицеру поперёк горла, и он решил во что бы то ни стало отправить её с детьми на родину. В эту ночь он пришёл сказать, что билеты куплены, и утром следует быть готовой к отъезду. Но могла ли бедная женщина так легко расстаться с мужем? Конечно, она вцепилась в него, принялась просить, умолять. Кто знает, какие сцены, какие слова предшествовали столь страшному эпилогу?
Когда часа через два я собиралась всё-таки заснуть, в дверь тихонько постучался Хаджи-калфа.
— Послушай меня, ходжаным. Кроме тебя, в гостинице женщин нет. Несчастная соседка лежит без сознания. Только не надо смеяться… Сходи к ней, ради бога, посмотри. Я ведь мужчина, мне неудобно. Не дай бог, помрёт. Свалится тогда беда на наши головы.
Но когда в дверях появилось лицо Хаджи-калфы, мною опять овладел приступ смеха. Я хотела сказать: «До свадьбы заживёт», — но не могла вымолвить ни слова.
Хаджи-калфа сердито посмотрел на меня и покачал головой:
— Хохочешь? Заливаешься? Ах ты негодница!.. Нет, вы только посмотрите на неё!..
Он так странно, с анатолийским акцентом, произносил слово «хохочешь», что я и сейчас не могу удержаться от смеха.
Больше часа мне пришлось провозиться с моей несчастной соседкой. Тело её было покрыто синяками и ссадинами. Она закатывала глаза, сжимала челюсти и всё время теряла сознание. Я впервые в жизни ухаживала за подобной «больной» и чувствовала себя очень неуверенно. Впрочем, стоит человеку попасть в положение сиделки, и он невольно начинает проявлять чудеса усердия.
Каждый обморок продолжался не менее пяти минут. Я растирала пострадавшей кисти рук. Её дочь подносила кувшин, и мы кропили лицо водой. Ссадины были на лбу, щеках, губах. Кровь, смешанная с сурьмой и румянами, стала почти чёрной и тоненькими струйками стекала по подбородку на грудь. Господи, сколько было краски на этом лице! Кувшин почти опустел, а румяна и сурьма всё ещё не смылись.
Когда я проснулась на другой день, номер напротив был уже пуст. Офицер рано утром на фаэтоне увёз свою первую жену вместе с детьми. Перед отъездом соседка хотела увидеть меня, чтобы проститься, но не осмелилась разбудить, так как знала, что из-за неё я почти не спала в эту ночь. Она поцеловала меня спящую в глаза и просила Хаджи-калфу передать привет.
Телегу порядком трясло. Когда мой взгляд останавливался на лице Хаджи-калфы, я опять начинала смеяться. Старик понимал причину столь неуместного веселья, сам смущённо улыбался в ответ и, качая головой, ворчал:
— Смеёшься! Всё ещё радуешься?! — И, вспоминая ужасный пинок, полученный вчера вечером, добавлял: — Проклятый офицеришка! Понимаешь, так меня лягнул, — всё в животе перемешалось. Мират, вот тебе отцовское наставление: никогда в жизни не вздумай разнимать супругов. Муж и жена — одна сатана.
Наконец мы доехали до родника. Здесь нам предстояло расстаться. Хаджи-калфа вылил воду из двух бутылок, которые я взяла в дорогу, наполнил их заново, потом принялся пространно наставлять старого возницу.
Неврик-ханым, всхлипывая, переложила в мою корзинку несколько хлебцев, испечённых накануне специально для меня.
Дикая Айкануш, которая, как мне казалось, была совершенно равнодушна ко мне, вдруг заплакала, словно у неё что-то заболело. Да как заплакала! Я сняла свои жемчужные серёжки и продела их в уши девушки. Моя щедрость смутила Хаджи-калфу.
— Нет, ходжаным! — пробормотал он. — Подарки не должны стоить денег. А ведь это драгоценные жемчужины…
Я улыбнулась. Как объяснить этим простодушным людям, что по сравнению с жемчужинами, которые текли по лицу девушки, эти серьги не имели никакой цены!
Хаджи-калфа подсадил меня на телегу, затем глубоко вздохнул, ударил себя кулаком в грудь и сказал:
— Клянусь тебе, для меня эта разлука мучительнее, чем вчерашний пинок офицера.
Эти слова опять напомнили о ночном скандале, и я рассмеялась. Телега тронулась. Хаджи-калфа погрозил вслед пальцем: