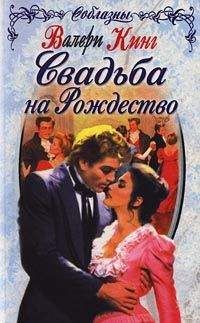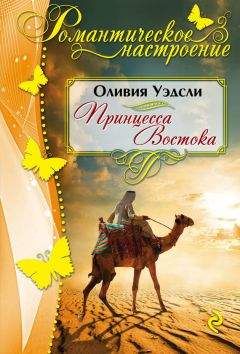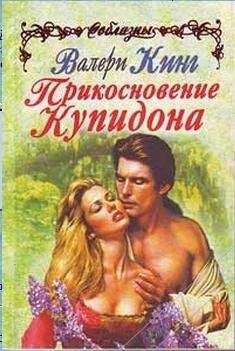Оливия Уэдсли - Пламя
– Я этого не чувствую. Между прочим, Гиацинта отказала мне.
Он вытер губы платком.
Тони опустилась на колени около его кресла:
– Это неправда, мой друг.
– Это проклятая правда, она обвенчалась с Рицким сегодня утром. Я только неделю тому назад узнал о смерти его жены. Я был в Нью-Йорке и увидел это в «Геральде». Я, пожалуй, всегда об этом думал, но о таких вещах только думаешь, а я верил Гиацинте. Когда я прочел объявление, я тотчас поехал домой. Ревность заставила меня так сделать, и я нашел сегодня утром ожидавшее меня ее письмо.
Он положил свою тонкую руку на ее. Рука его горела.
– Дорогой, я так огорчена! – прошептала Тони.
– Я вам верю, что вы огорчены, и я вам благодарен. Я чувствую себя, как человек, которому был нанесен удар из-за угла. Это было нечестно. Мне не повезло. Мне всегда не очень везло при моей уродливой физиономии и при жалком маленьком теле, но я любил ее, и она это знала.
Он сел и смотрел на качавшиеся ветки деревьев.
– Таково мое возвращение домой. Тони встала и приготовила чай.
– Вы бы лучше нарисовали карикатуру, в ответ на ту, которую вы однажды видели, и назвали бы ее «Раненое чудовище».
– Не говорите! – сказала она.
– Это то, что я теперь собой представляю. Сегодня я мог бы проклясть весь мир и смеяться, видя, как он страдает.
– Вы никогда не думали, что Гиацинта не совсем заслуживала доверия?
Он горько засмеялся.
– Разве, когда мужчина любит красивую женщину, он может предположить такие вещи? Я верил в нее, и этого было достаточно для меня. Я бы думал, что оскорбляю ее, если бы я спрашивал ее о ее друзьях или поступках. Я знал, что она капризна. Я хотел, чтобы она насладилась свободой до того, как мы поженимся. И раньше всего, наш союз был не совсем обычным. Я никогда не мечтал о том, что она меня полюбит, что она привязана. Я был доволен тем, что люблю ее. Она знала это. Она добровольно мне сказала, что любит меня. Вы не можете понять, что это для меня означало. Мне твердили, что я должен жениться. Я тоже чувствовал, что это мой долг, что владения перейдут к другой ветви нашего рода, если я умру неженатым или бездетным, а сознание, что я должен удержать владения для нашей ветви, было во мне врожденным. Я думаю, Гиацинта все это знала. Я был откровенен с нею.
Он резко прервал себя и, встав, начал ковылять взад и вперед по комнате.
Тони смотрела на него с жалостью. Один из самых тяжелых моментов в дружбе – это сознание своего бессилия помочь другу перенести страдания.
Де Солн отошел в конец комнаты, и бледное лицо его подергивалось.
– Я в клетке, – сказал он с силой, – я заперт в ней и не могу выйти на свободу. Я продолжаю страдать и биться о решетки, я безумец, что пришел сюда и говорил с вами об этом. Не знаю, почему я пришел. Какое вам до этого дело, в конце концов, если другая женщина одурачила меня? И почему это должно вас касаться? – Его жестокий взгляд встретился с ее глазами. – Я ухожу, – сказал он, повернувшись к двери.
– Жан, подождите минуту.
Она прошла комнату и схватила его руку.
– Вы были очень жестоки как по отношению ко мне, так и по отношению к себе самому, – выговорила она с трудом. – Вы знаете, вы должны знать, что ваше горе причиняет мне боль. Мы так долго уже были друзьями с вами. Не отталкивайте меня теперь, когда я вам нужна. Я нужна вам. Я, которая однажды сама страдала, говорю вам это. Жан, дорогой, жизнь еще перед вами, а Гиацинта никогда не была достойна вас. Будучи вашим другом, я давно уже это видела. Неужели вы будете оплакивать идола, который никогда не был достоин поклонения? Я могу сказать, что сейчас все мои слова дешево стоят и бесполезны для вас. Позже вы поймете, что это не так. Теперь можете идти, но вы завтра придете снова. Обещайте мне.
Он машинально направился к двери.
– Обещаете?
– Да, – сказал он сдавленным голосом и ушел.
ГЛАВА XXIX
Я хотел, чтобы ты была для меня всем, ты этим и стала, – не больше.
Р. БроунингДе Солн не пришел ни на завтра, ни в следующие дни, и Тони отправилась в поиски за ним.
Его лакей вышел к ней и сообщил, что де Солн болен и не может никого принять.
– А есть у него врач?
– Нет, сударыня.
– В таком случае я поднимусь к нему.
Гастон беспомощно посмотрел ей вслед и поднятием плеч выразил свое бессилие справиться с положением.
Тони постучала в дверь и, в ответ на его «войдите», спокойно вошла.
Он лежал на кровати, окруженный книгами, в голубой ночной рубашке с отложным воротничком. Он выглядел странно молодым и трогательным.
Впервые в жизни в душе Тони зашевелилось странное чувство жалости. Это был инстинкт материнства, который в ней проснулся.
Де Солн улыбнулся:
– Не могу понять, почему вы так беспокоитесь обо мне?
– Скромное создание. Я случайно интересуюсь вами.
– Я уезжаю на будущей неделе.
Она кивнула головой:
– Я так и думала. Куда вы поедете? Я буду скучать без вас.
– Египет, я думаю. Почему вы будете по мне скучать?
– Разве я могу объяснить это? Потому что я привыкла к вам, потому что вы заняли место в моей жизни и в моем сердце, потому что я понимаю вас, с тех пор как вы первый меня поняли. Достаточно доводов?
Он переменил тему разговора:
– Я вчера получил письмо от Гиацинты. Вы были правы, когда говорили, что она не была достойна доверия. Только трусливая женщина – а трусливые женщины никогда не бывают искренни – могла написать такое письмо. Самое странное во всем этом то, что и теперь, зная ее такой, какой она есть, я все так же хочу ее. Я не могу с этим совладать. Мысль о ней, ее стройная фигура, ее запах – все это мне вспоминается и мучает меня. А между тем я вижу все, как оно есть. Я еще худший дурак, чем я думал.
– Нет, вы просто человек. Раз человек любит, ему нет дела до того, такова ли любимая, какой он ее считает, или нет. Существует любовь, а все остальное не идет в счет ни в малейшей степени.
Он саркастически рассмеялся:
– Как хорошо женщина философствует о любви, когда не она ранена ею.
Яркая краска зажгла лицо и шею Тони. Де Солн заметил это и густо покраснел.
– Простите меня, – я животное. Тони, скажите мне, как ваши дела? Успеваете ли вы?
– В следующем месяце будет моя выставка.
– Я из-за этого вернусь, где бы я ни был. У вас великолепный вид.
– Я так страшно разбогатела, и, в конце концов, кроме Жоржетты и Симпсона, мне больше не на кого тратить.
– Почему вы держите около себя Жоржетту? Она совсем неподходящая подруга для вас.
– Я люблю ее.
– Так же, как вы любите Симпсона?
– Не той же любовью. Симпсон был маленький, раненый и одинокий, а Жоржетта была большая и, к сожалению, совсем не одна.
– Вы странное существо.
– Потому что я люблю собаку и другую женщину?
– И потому что вы других не любите так же.
– Я люблю мою работу.
– Работу? – он рассмеялся. – Вещь, которой женщина заглушает свое сердце, если кто-нибудь его опустошил, или пока никто не явился, чтобы заполнить его.
– Тысячу благодарностей. – Она сделала ему реверанс. – Не разрешите ли вы мне напомнить вам, что вы сами выбрали мне мою профессию?
– Тони, неужели вы никогда больше не полюбите?
Ее лицо передернулось.
– Не знаю, – сказала она очень тихо, – я чувствую так, как будто все мое сердце погребено под развалинами.
Он не ответил. Сумерки мягко нависли над ними, дрова в камине разгорались то там, то тут и освещали комнату языками пламени. Очень издалека доносился шум вечерней жизни.
– Мне нужно идти, – сказала Тони.
Она подошла к кровати.
– Итак, прощайте на некоторое время.
Руки Жана сжали ее руку.
– Я, вероятно, вовсе не уеду.
– Я думаю, что вам надо ехать. Я полагаю, что это был приступ старой болезни.
– Припадок был очень сильный.
– Бедный друг. Если вы не уедете, напишите мне, и я снова приду.
– Что вам больше хочется, чтобы я уехал или остался?
Вопрос озадачил ее. Нотка повелительного требования ответа взволновала ее немного…
– Конечно, я бы больше хотела, чтобы вы остались, – мягко ответила она.
Он нагнулся и поцеловал ей руку.
– До свидания!
ГЛАВА XXX
Мои мысли стремились и неотступно следовали за твоими, снова и снова.
Тони сидела на коврике перед камином. Симпсон сидел тут же рядом, положив покровительственно одну лапу на ее платье и мирно мигая глазами на огонь. Временами Тони почесывала ему левое ухо, и он отвечал благодарным взглядом.
В одном отношении собаки легко побивают людей: им в высшей степени свойственно чувство благодарности. Симпсон Сомарец особенно обладал этим чувством; он никогда не забывал того, что был бездомной собакой. Он обожал Тони. Единственный фокус, который он выучил из любви к ней, отнял у него год времени. Он не был проворной собакой, но все же он, наконец, научился танцевать вальс; у него уходило много времени, пока он делал круг, и нос становился влажнее обыкновенного, но все же он, наконец, это одолел. Он танцевал после чая, так как Тони была рассеянна весь день, и это, наверное, ее развлекало. Это развлекло бы кого угодно, так как это было замечательно торжественное представление.