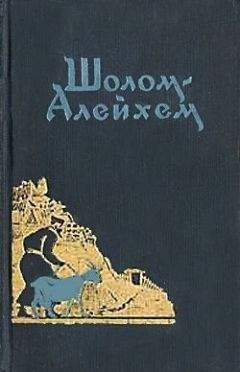Лора Бекитт - Любовь и Рим
– Ты стала еще красивее, – сказал Элиар, останавливаясь и глядя ей в лицо. – У тебя, наверное, кто-нибудь есть? Конечно, ты вправе не отвечать…
Тарсия улыбнулась со страдальческой нежностью, как человек, привыкший к потерям и знающий их цену.
– А с кем сегодня был ты?
Он чуть слышно вздохнул, его руки соскользнули с ее плеч.
– Эта бедная девушка – рабыня. Мы познакомились на берегу Тибра. – И, помолчав, прибавил: – Просто я понял, что слишком долго был один.
– Я тоже.
– Поверь, я прекрасно помню, как случилось, что я сам отказался от тебя! – вдруг сказал Элиар. – Тогда мне казалось, будет лучше, если ты забудешь меня, найдешь себе мужа, родишь детей. Да и я, наверное, не выжил бы, если б все время думал о тебе.
Она бросила на него быстрый взгляд, и тогда он прибавил с неожиданным жаром:
– Пойми, для меня вовсе не страшно потерять жизнь, просто я не хотел бы лишиться ее вот так, на арене, под крики толпы!
Элиар умолк, подумав о том, что, пожалуй, только в Риме можно одновременно быть и презираемым, и любимым. Когда после долгой болезни он вновь появился на публике, эти гордые римляне вскакивали с мест и вопили: «Элиар! Элиар!». Он видел вдохновленные азартом взгляды патрициев и блестящие глаза матрон и с изумлением начинал понимать, что крест способен стать пьедесталом для распятого и что, даже стоя на арене, можно быть выше толпы.
– Что ж, – промолвила Тарсия, – когда-то ты говорил, что Рим отнял у тебя свободу и растоптал гордость. А меня ты отдал Риму сам, безо всякой борьбы, – просто так подарил свое сердце! Ты думал, оно не понадобится в твоей ненависти и стремлении выжить, для того чтобы мстить?
Элиар не отрываясь смотрел в ее спокойное лицо.
– Мы встретились слишком поздно? – тихо спросил он. Тарсия передернула плечами.
– А ты никогда не думал, – ее голос дрогнул, – каково мне пришлось? Весь этот год я была больна от горя и душевной тревоги, так, что все окружающее казалось мне тусклым и серым. Моя любовь к тебе стала моей болью, с которой я жила день ото дня…
Девушка дрожала от холода, и он привлек ее к себе, и она притихла в его объятиях. Странно, ощущение надежности не умерло: Тарсия словно бы возвращалась домой после долгих скитаний, с холода – к теплу родного очага.
– Давай встретимся еще раз? – предложил он – Я ни о чем не прошу, просто поговорим.
– Хорошо, – отвечала Тарсия, – если только я смогу отпроситься у госпожи.
– Со мной и того хуже, – сказал Элиар, – даже не знаю, как скоро меня отпустят! Но ты… обещаешь ждать?
И она тихо промолвила, подняв на него ослепленные слезами глаза:
– Обещаю.
ГЛАВА X
Прошел почти год – от весны до весны, – наступили календы априлия 712 года от основания Рима (начало марта 44 года до н. э.).
Был день Сатурна (суббота); Ливия сидела в доме своей подруги Юлии, разговаривая с нею и наблюдая за ее восьмимесячным сыном, который ползал по широкой кровати, хватая игрушки, – вырезанных из дерева лошадок, шерстяных кукол, пестро раскрашенные камешки и палочки. Юлия зорко следила за тем, чтобы малыш не тащил их в рот.
– Он очень быстро растет! – в ее словах звучала гордость. – Все думают, что ему больше года.
Ливия внимательно смотрела на подругу, продолжавшую говорить про своего малыша. Юлия была по-прежнему красива особой статной красотой, хотя черты ее смуглого лица несколько отяжелели. Она двигалась степенно, по-хозяйски; пояс и складки одежды подчеркивали ее налитую грудь и выпуклый живот. Юлия снова была беременна и на сей раз мечтала родить девочку.
Ливия слушала подругу, изредка улыбаясь «тенью улыбки». Она стала старше и строже на вид, хотя в ее облике сохранилось еще много девического. Ей словно были несколько велики одежды замужней женщины, и она носила их неловко, отчасти даже неумело, точно девочка, осмелившаяся примерить материнский наряд. Ее обрамленное гладко причесанными волосами лицо таинственно оживляли зеленовато-карие, как болотная трава, глаза – иногда в их взгляде сквозило что-то зрелое, некое смиренное спокойствие, присущее людям старшего возраста.
– А ты? – бесцеремонно спрашивала Юлия. – Ты еще не беременна?
– Мне некуда спешить, – отвечала Ливия, без малейшего трепета глядя на пускающего слюни ребенка.
– Что говорит по этому поводу Луций?
– Ничего.
– Мужчины хотят иметь продолжателей рода, – уверенно заявила Юлия. И вдруг засмеялась. – Слышала, говорят, для того, чтобы устроить брак Цезаря с Клеопатрой, будет издан закон, согласно которому Цезарь сможет брать себе сколько угодно жен, лишь бы иметь наследника!
– Я не верю, – сказала Ливия.
– И все-таки согласись, мужчины придумают что угодно, лишь бы оправдать свои поступки! Так уж распорядились боги: мир принадлежит нашим отцам и мужьям!
– Мир принадлежит тому, кто сумел его завоевать. И если кто-то добился того, чего до сих пор не удавалось достичь ни одному смертному, вполне справедливо, что ему оказывают столь невиданные почести, – уверенно заявила Ливия.
Она помнила о том, что говорили Луций и отец, обсуждая декретированные сенатом привилегии Цезарю: ему позволили пользоваться позолоченным креслом, надевать царское облачение, клятва именем Цезаря считалась юридически действительной, ему определялась почетная стража из сенаторов и всадников, Цезарю посвящались храмы…
«Теперь у нас будет как бы государственный бог», – с легкой улыбкой заметил Луций.
«Все, что он предпринял, своевременно, – отвечал Марк Ливий, – однако нельзя сказать, что эти меры носят решающий характер».
«Что ты подразумеваешь под решающими мерами? – промолвил Луций. – Необходимость окончательно наступить на горло Республике?»
Поговаривали, будто Цезарь хочет создать в Риме монархию эллинистического типа; к этому, похоже, стремилось и его ближайшее политическое окружение, члены «личной партии», куда входили как некие тайные советники, так и те, кому нынешний диктатор обеспечивал места в сенате. «Что кажется нелепым при Республике, будет вполне уместно при монархии» – это касалось и множественных привилегий, и создания негласного, но реально существующего «двора».
Все знали о республиканской оппозиции, часть которой успешно скрывалась под внешней лояльностью и угодливостью. Среди «неявных» республиканцев было немало тех, кого Цезарь в свое время простил и приблизил к себе.
«Я уважаю Цезаря за то, что он не стал жестокосердным, и, в отличие от многих других правителей, всегда готов прощать своих врагов во имя государственных интересов», – так говорил в свое время Гай Эмилий.
«Нельзя полагать, что прощенные таят меньше ненависти, чем наказанные», – эти слова принадлежали Луцию Ребиллу.